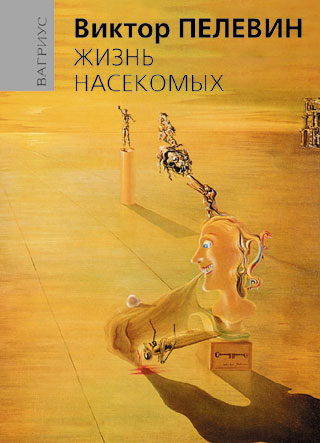
Home Библиотека Галерея Тесты Психология Ссылки Germany.ru
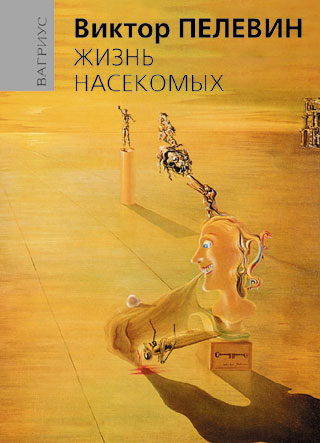
Главный корпус
пансионата, наполовину скрытый старыми тополями и кипарисами, был
мрачным серым
зданием, как бы повернувшимся к морю задом по команде безумного
Иванушки. Его
фасад с колоннами, потрескавшимися звездами и навек согнутыми под
гипсовым
ветром снопами был обращен к узкому двору, где смешивались запахи
кухни,
прачечной и парикмахерской, а на набережную выходила массивная стена с
двумя
или тремя окнами. В нескольких метрах от колоннады поднимался бетонный
забор,
по которому уходили вдаль поблескивающие в лучах заката трубы
теплоцентрали.
Высокие торжественные двери, скрытые в тени опирающегося на колонны
циклопического балкона (скорее, даже террасы), были заперты так давно,
что даже
щель между ними исчезла под несколькими слоями спекшейся краски, и двор
обычно
пустовал – только иногда в него осторожно протискивался грузовик,
привозивший
из Феодосии молоко и хлеб.
Но в этот вечер во дворе
не было даже грузовика, поэтому гражданин, облокотившийся на лепное
ограждение
балкона, не был виден никому, кроме, может быть, пары патрульных чаек,
белыми
точками плывших в небе. Гражданин глядел вниз и вправо, на маленький
домик
лодочной станции, под крышей которого помещалась воронка репродуктора.
Шумело
море, но когда ветер начинал дуть в сторону пансионата, можно было
разобрать
обрывки обращенных к пустому пляжу радиопредложений:
– …вовсе не
одинаковы, не скроены по одному и тому же шаблону…
– …создал нас
разными
– не часть ли это великого замысла, рассчитанного, в отличие от
скоротечных
планов человека, на многие…
– …чего ждет от
нас
Господь, глядящий на нас с надеждой? Сумеем ли мы воспользоваться его
даром?…
– …он и сам не
знает, как проявят себя души, посланные им на…
Долетели звуки органа.
Мелодия была довольно величественной, только время от времени ее
прерывало
непонятное «умпс‑умпс»; впрочем, особенно вслушаться не
удалось, потому что
музыка играла очень недолго и снова сменилась голосом диктора:
– Вы слушали
передачу из цикла, подготовленного специально для нашей радиостанции по
заказу
американской благотворительной организации «Вавилонские
реки»… по воскресеньям…
по адресу: «Голос Божий», Блисс, Айдахо, США.
Репродуктор смолк, и
мужчина загнул указательный палец.
– Ага, –
пробормотал он, – сегодня воскресенье. Значит, танцы будут.
Выглядел он странно.
Несмотря на теплый вечер, на нем были серая тройка, кепка и галстук
(почти так
же был одет стоявший внизу небольшой южный Ленин, по серебристое лоно
увитый виноградом).
Но мужчина, судя по всему, не страдал от жары и чувствовал себя вполне
в своей
тарелке. Иногда только он посматривал на часы, оглядывался и что‑то
укоризненно
шептал.
Репродуктор несколько
минут шипел вхолостую, а потом мечтательно заговорил по‑украински. Тут
мужчина
услышал за спиной шаги и обернулся. По балкону к нему шли двое. Первым
шагал
низенький толстяк в белых шортах и пестрой майке. Следом шел иностранец
в
панаме, легкой рубашке и светлых бежевых штанах, с большим обтекаемым
кейсом в
руке. То, что это иностранец, было ясно не столько по одежде, сколько
по
хрупким очкам в тонкой черной оправе и по нежному загару того особого
набоковского оттенка, которым кожа покрывается исключительно на других
берегах.
Мужчина в кепке показал
пальцем на свои часы и погрозил толстяку кулаком, на что тот ответил
криком:
– Спешат! Врут все!
Сойдясь, они обнялись.
– Привет, Арнольд.
– Здравствуй, Артур.
Знакомьтесь, – толстяк повернулся к иностранцу, –
это Артур, о
котором я вам рассказывал. А это Сэмюэль Саккер. Говорит по‑русски.
– Просто
Сэм, –
сказал иностранец, протягивая руку.
– Очень
приятно, – сказал Артур. – Как добрались, Сэм?
– Спасибо, –
ответил Сэм, – нормально. А что тут у вас?
– Все как
обычно, – сказал Артур. – Вы себе представляете
ситуацию в Москве,
Сэм? Считайте, тут то же самое, только несколько больше гемоглобина и
глюкозы.
Ну и витаминов, конечно, – корм тут хороший, фрукты,
виноград.
– И потом, –
добавил Арнольд, – насколько мы знаем, вы на Западе просто
задыхаетесь от
различных репеллентов и инсектицидов, а наша упаковка экологически
абсолютно
чиста.
– А санитарно?
– Простите?
– Санитарно она
чиста? Вы ведь про кожу? – сказал Сэм.
Арнольд несколько
смутился.
– Н‑да, –
нарушил Артур неловкую паузу. – Вы к нам надолго?
– Дня, думаю, на
три‑четыре, –
ответил Сэм.
– И вы успеете за
это время провести маркетинг?
– Я бы не стал
употреблять слово «маркетинг». Просто хочу набраться
впечатлений. Составить,
так сказать, общее мнение, насколько целесообразно развивать здесь наш
бизнес.
– Отлично, –
сказал
Артур. – Я уже наметил несколько образцов, которые в
достаточной степени
репрезентативны, и, думаю, завтра с утречка…
– О нет, –
сказал Сэм. – Никаких потемкинских деревень. Я предпочитаю
двигаться
наугад. Как ни странно, при этом получаешь самое верное представление о
ситуации. И не завтра с утра, а прямо сейчас.
– Как? –
ахнул
Артур. – А отдохнуть? Выпить с дорожки?
– Действительно, –
сказал Арнольд, – лучше бы завтра. И по нашим адресам. А то
у вас сложится
искаженное представление.
– Если у меня сложится
искаженное представление, у вас будет достаточно времени, чтобы его
исправить, – ответил Сэм.
Уверенным спортивным
движением он вскочил на перила балкона и сел, свесив в пустоту ноги.
Двое
остальных, вместо того чтобы удержать его, влезли на ограждение сами.
Артур
проделал эту операцию без труда, а Арнольду она удалась только со
второй
попытки, и сел он не так, как первые двое, а спиной ко двору, словно
для того,
чтобы голова не кружилась от высоты.
– Вперед, –
сказал Сэм и прыгнул вниз.
Артур молча последовал за
ним. Арнольд вздохнул и спиной вперед повалился следом, как
аквалангист,
опрокидывающийся в море с борта лодки.
Окажись у этой сцены
свидетель, он, надо полагать, перегнулся бы через перила, ожидая
увидеть внизу
три изувеченных тела. Но он не увидел бы там ничего, кроме восьми
небольших
луж, расплющенной пачки от сигарет «Приморские» и трещин на
асфальте.
Зато если бы он обладал
нечеловечески острым зрением, то смог бы разглядеть вдалеке трех
комаров,
улетающих в сторону скрытого за деревьями поселка.
Что почувствовал бы этот
воображаемый наблюдатель и как бы он поступил – растерянно полез
бы вниз по
ржавой пожарной лестнице, единственному пути, ведущему прочь с давно и
наглухо
заколоченной террасы, или – кто знает? – ощутив в
своей душе новое
неведомое чувство, сел бы на серое лепное ограждение и повалился бы
следом за
тремя собеседниками? Не знаю. Да и вряд ли кто‑нибудь знает, как
поступил бы
тот, кто на самом деле не существует, но зато обладает нечеловечески
острым
зрением.
Отлетев на несколько
метров от стены, Сэм оглянулся на компаньонов. Артур с Арнольдом
превратились в
небольших комаров характерного цвета «мне избы серые твои»,
когда‑то
доводившего до слез Александра Блока; теперь они с мутной завистью
глядели на
своего спутника, покачиваясь в потоке воздуха, восходящем от нагретой
за день
земли.
Только неудобное
устройство ротовых органов удержало Сэма Саккера от самодовольной
гримасы. Он
выглядел совсем иначе: он был светло‑шоколадной раскраски, с изящными
длинными
лапками, поджарым брюшком и реактивно скошенными назад крыльями; если
изменившиеся лица Артура и Арнольда заканчивались толстым штырем,
похожим не то
на иглу титанического шприца, не то на измеритель скорости на носу
реактивного
истребителя, то губы Сэма элегантно вытягивались в шесть тонких упругих
отростков, между которыми торчал длинный острый хоботок, –
словом,
понятно, как выглядел москит‑кантатор рядом с двумя простыми русскими
насекомыми. К тому же Артур с Арнольдом летели каким‑то бабьим брассом,
а
движения крыльев Сэма скорее напоминали баттерфляй, поэтому двигался он
намного
быстрее и ему даже иногда приходилось зависать в воздухе, чтобы
подождать
спутников.
Летели молча. Сэм
описывал широкие круги вокруг Артура и Арнольда, которые угрюмо
посматривали на
его эволюции; особенно плохо было Арнольду, которого тянула к земле
поблескивавшая в его брюхе рубиновая капля. Куда летел Сэм, было
непонятно – он
выбирал дорогу по ему одному известным приметам, несколько раз
поворачивал и
менял высоту, зачем‑то влетел в окно, промчался по длинному пустому
чердаку и
вылетел с другой стороны; наконец навстречу поплыла белая стена с окном
в синей
раме, и все вокруг накрыла густая тень росших вокруг дома груш. Сэм
снизился,
подлетел к невысокому окну, затянутому белой марлей, и приземлился на
криво
прибитую доску, служившую карнизом. Артур с Арнольдом сели рядом. Как
только
стих тонкий звон крыльев, перекрывавший почти все остальные звуки, стал
слышен
доносящийся из‑за марли храп.
Сэм вопросительно
посмотрел на Артура.
– Тут дырка должна
быть в углу, – шепотом сказал тот. – Обычно наши
делают.
Дырка оказалась узкой
щелью между рамой и марлей. Артур с Сэмом протиснулись в нее без
особого труда,
а у Арнольда возникли проблемы с брюхом; он долго сопел и отдувался и
пролез
только тогда, когда спутники втянули его внутрь за лапки.
В комнате было темно;
пахло одеколоном, плесенью и потом. В центре размещался большой стол,
покрытый
клеенкой; рядом стояли кровать и тумбочка, на которой блестел ровный
ряд
граненых флаконов. На кровати, в ворохе скомканных простыней, лежало
полуобнаженное тело, свесившее одну синюю трикотажную ногу к полу. Оно
содрогалось в спазмах неспокойного сна и, естественно, не заметило
появления на
тумбочке недалеко от своей головы трех комаров.
– Что это у него за
татуировка? – тихо спросил Сэм, когда его глаза привыкли к
полумраку. – Ну, Ленин и Сталин – это понятно, а
почему снизу написано
«лорд»? Это что, местный аристократ?
– Нет, –
ответил Артур. – Это аббревиатура: «Легавым отомстят
родные дети».
– Он ненавидит
собак?
– Понимаете, –
снисходительно ответил Арнольд, – это сложный культурный
пласт. Если я
сейчас начну давать объяснения, мы буквально утонем. Давайте лучше, раз
уж
прилетели, брать пробу, пока материал спит.
– Да‑да, –
сказал Сэм. – Вы совершенно правы.
Он взмыл в воздух и после
грациозного иммельмана над лежащим приземлился на участок тонкой и
нежной кожи
возле уха.
– Арнольд, –
восхищенно прошептал Артур, – ну и ну… Он же
беззвучно летает.
– Америка, –
констатировал Арнольд. – Ты лети присмотри за ним, а то мало
ли.
– А ты?
– Я здесь
подожду, – сказал Арнольд и похлопал себя лапкой по брюху.
Артур взлетел и, стараясь
звенеть по возможности тише, подлетел к Сэму. Тот пока еще не делал
лунки и
сидел на буграх кожи, между которыми торчали волосы, походившие на
молодые
березки.
Сэм встал, прислонился к
одной из березок и задумчиво уставился на далекие холмы сосков в густых
рыжих
зарослях.
– Знаете, –
сказал он, когда Артур приземлился рядом, – я много
путешествую, и что
меня всегда поражает, это уникальная неповторимость каждого пейзажа. Я
недавно
был в Мексике – конечно, не сравнить. Такая богатая, знаете,
щедрая природа,
даже слишком щедрая. Бывает, чтобы напиться, долго бредешь сквозь
грудной
чапараль, пока не находишь подходящего места. Ни на миг нельзя терять
бдительности – с вершины волоса на тебя может напасть дикая вша,
и тогда…
– А что, вша может
напасть? – недоверчиво спросил Артур.
– Видите ли,
мексиканские вши очень ленивые, и им, конечно, легче высосать кровь из
тонкого комариного
брюшка, чем добывать пищу честным трудом. Но они очень неповоротливы, и
если
вша нападает, обычно все же успеваешь взлететь. А в воздухе может сбить
блоха.
Словом, это суровый мир, жестокий, но в то же время прекрасный. Я,
правда,
больше люблю Японию. Знаете, эти долгие желтые пространства, почти
лишенные
растительности, но все же не похожие на пустыню. Когда смотришь на них
с
высоты, кажется, что попал в глубокую древность. Но все это, конечно,
надо
видеть самому. Ничего нет красивее японских ягодиц, когда их чуть
золотит
первый рассветный луч и обдувает тихий ветер… Боже, как
прелестна бывает жизнь!
– А здесь вам
нравится?
– Каждый пейзаж
имеет свое очарование, – уклончиво ответил Сэм. –
Я бы сравнил эти
места (он кивнул головой в сторону нависшего над шеей уха) с Канадой в
районе
Великих Озер. Только здесь все ближе к неосвоенной природе, все запахи
естественные… – он ткнул лапкой в основание
волоса. – Мы ведь и забыли,
как она пахнет, мать‑сыра кожа…
По интонации, с которой
Сэм произнес последние слова, Артур понял, что тот щеголяет знакомством
с
русской идиоматикой.
– В общем, –
добавил Сэм, – разница примерно как между Японией и Китаем.
– А вы и в Китае
бывали? – спросил Артур.
– Приходилось.
– А в Африке?
– Сколько раз.
– Ну и как?
– Не могу сказать,
чтобы мне особо понравилось. Такое ощущение, что попадаешь на другую
планету.
Все черное, мрачное. И потом – поймите меня правильно, я не
расист, но местные
комары…
Артур не нашел, о чем еще
спросить, и Сэм, вежливо улыбнувшись, приступил к работе. Выглядело это
непривычно. Он отогнул боковые отростки, его острый хоботок с
невероятной
скоростью завибрировал и, словно нож в колбасу, погрузился в почву у
основания
ближайшей березки.
Артур тоже собирался
напиться, но, представив себе, как его грубый и толстый нос будет с
хрустом
входить в неподатливую кожу, застеснялся и решил подождать. Сэм
ухитрился
попасть в капилляр с первой попытки, и теперь его брюшко из коричневого
постепенно делалось красноватым.
Поверхность под ногами
дрогнула, донеслось тихое мычание выдоха – Артур был уверен, что
тело сделало
это по своим внутренним причинам, без всякой связи с происходящим, но
все же
ему стало чуть не по себе.
– Сэм, –
сказал
он, – сворачивайтесь. Тут вам не Япония.
Сэм не обратил на его
слова никакого внимания. Артур поглядел на него и вздрогнул. Пушистое
рыльце
Сэма, минуту назад бывшее осмысленным и интеллигентным, странно
исказилось, а
выпуклые волосатые глаза, обведенные похожей на оправу тонкой черной
линией,
перестали выражать вообще что‑либо, словно из зеркала души превратились
в две
угасшие фары. Артур приблизился и слегка толкнул Сэма.
– Эй, –
настойчиво сказал он, – пора.
Сэм никак не
отреагировал. Тогда Артур толкнул его сильнее, но тот словно врос в
почву. Его
брюшко продолжало надуваться. Вдруг тело под ногами заворочалось и
издало
хриплый рык. Артур в панике подпрыгнул и заорал что было мочи:
– Арнольд! Сюда!
Но Арнольд, встревоженный
суетой и криками, уже подлетал сам.
– Что ты звенишь на
всю комнату? Что случилось?
– Что‑то с
Сэмом, – отвечал Артур, – его, по‑моему,
парализовало. Никак
растолкать не могу.
– Давай его под
крылья. Ага, вот так. Осторожно, ты ему на лапку наступил. Сэм, лететь
можете?
Сэм слабо кивнул. Кожа,
на которой они стояли, затряслась и стала крениться вправо.
– Быстро вверх! Он
встает! Сэм, машите крыльями, потом поздно будет! – кричал
Артур,
поддерживая погрузневшее туловище Сэма и еле успевая уворачиваться от
его
крыльев, бессмысленно ходящих взад‑вперед.
Наконец, кое‑как удалось
сесть на тумбочку. Тело поднялось с кровати, нависло над комарами, и в
страшной
тишине из‑под потолка на них черной тенью понеслась огромная ладонь.
Когда
Артур с Арнольдом уже собирались швырнуть Сэма навстречу судьбе и
взмыть в
разные стороны, ладонь изменила направление, метко схватила один из
стоящих на
тумбочке флаконов и исчезла вверху; раздался далекий рев пружин; тело
опять
закачалось на койке.
– Артур, –
тихо
спросил Арнольд, – ты не знаешь, что в этих флаконах?
– А это
лес, –
вдруг сказал Сэм. – Русский наш лес.
– Какой лес?
– Кипр
шипр, –
непонятно отозвался Сэм.
– Сэм, вы в
порядке? – спросил Арнольд.
– Я? –
зловеще
усмехнулся Сэм. – Я‑то в порядке. А вот с вами порядок мы
еще наведем…
– Надо его на воздух
быстрее, – озабоченно сказал Артур.
Арнольд кивнул и
попытался поднять Сэма, но тот хлестнул его крылом по рылу, взмыл в
воздух,
понесся к окну и с невероятной ловкостью проскочил сквозь узкую щель
между
рамой окна и марлевым экраном, за которым уже синели сгустившиеся южные
сумерки.
Утро следующего дня было
тихим. Сползающий с гор туман затекал в кипарисовые аллеи, и сверху
казалось,
что под его поверхностью, рассеченной параллельными зелеными дамбами,
нет
никакого дна, а если и есть, то очень далеко. Редкие прохожие казались
чем‑то
вроде рыб, медленно плывущих на небольшой глубине; их очертания были
неясными,
и Артур с Арнольдом уже два раза снижались напрасно, приняв за Сэма
Саккера
сначала размокшую коробку от телевизора, а потом маленький стог сена,
накрытый
куском полиэтилена.
– Может, сел на
попутку и в Феодосию уехал? – нарушил молчание Артур.
– Может,
может, – отвечал Арнольд. – Все может.
– Гляди, –
сказал Артур, – не он?
– Нет, –
всмотревшись, сказал Арнольд, – не он. Это статуя
волейболиста.
– Да нет, дальше, у
ларька. Из кустов выходит.
Арнольд увидел крупный
предмет, издалека похожий на большой навозный шар. Предмет вывалился из
кустов,
покачиваясь, докатился до скамейки и плюхнулся на нее, вытянув вперед
странно
тонкие ноги.
– Садимся, –
сказал Арнольд.
Через минуту они вышли из‑за
пустого газетного ларька, оглядели три или четыре метра видимого
пространства и
сели на лавку по бокам от толстяка. Несомненно, это был Сэм, но от того
Сэма,
который вчера вечером стоял на балконе пансионата, он отличался очень
сильно.
Дело было не в увеличившемся животе – эта обычная для комаров
трансформация не
заслуживала внимания, – а в лице, которое, оставаясь тем же
самым,
казалось теперь чем‑то набитым, но не так, как, например, фаршированный
яблоками гусь, а скорее как фаршированное гусем яблоко.
«Черт, – подумал
Артур, глядя на спокойный и жутковатый профиль иностранца, –
может, ему
эту группу крови нельзя? Может, у него аллергия?»
– Еле вас нашли,
Сэм, – заговорил Арнольд.
– А чего меня
искать, – сказал Сэм, – вот он я. Сами, значит,
подрулили.
Говорил он новым,
незнакомым голосом, глухим и медленным.
– Где же вы
ночевали? – спросил Артур. – Неужели прямо на
лавке? Тут ведь места
для вас незнакомые, а народ сейчас знаете какой…
Сэм неожиданно повернулся
к Артуру и сгреб его за лацканы.
– Что вы, Сэм…
–
отдирая его руки, зашипел Артур. – Пустите! Пустите! На нас
люди смотрят!
Это было неправдой – на
него и Сэма смотрел только растерянный Арнольд.
– Признайся,
блядь, – сурово сказал Сэм, – ведь сосешь русскую
кровь?
– Сосу, –
тихонько ответил Артур.
Сэм высвободил одну руку
и чугунными пальцами схватил за шею Арнольда.
– И ты сосешь?
– И я, –
потрясенно сознался Арнольд.
Рука давила на плечи
Арнольда с такой силой, что он осел под ней, как штангист, попытавшийся
взять
слишком большой вес, и даже вспомнил про каменную десницу из трагедии
Пушкина,
которую читал еще личинкой. Сэм погрузился в молчание, как бы
обдумывая, что
еще сказать.
– Так что ж вы ее
сосете‑то? – туповато спросил он минуты через три.
– Пить
хочется, – жалко сказал Артур.
Арнольд не видел его –
все заслоняло выпирающее брюхо Сэма, похожее на одинокий красный парус.
Арнольд
почувствовал обиду за унижение в голосе товарища.
– А что это за
намеки такие? – язвительно спросил он. – Мы
всякую сосем. Да и вы
разве не сосете? Я такие разговоры давно понял. Просто сами высосать
хотите до
последней капли, и все. Вон брюхо‑то какое. Нам с Артуром за неделю
столько не
выпить.
Сэм отпустил Артура и
потрогал ладонью свой огромный колышущийся живот.
– Вставай, страна
огромная, – пробормотал он и с напряжением приподнялся,
рукой чуть не
размазав Арнольда по скамейке. Запрокинув лицо вверх, он несколько раз
коротко
глотнул воздух, потом нагнул голову, но вместо того чтобы чихнуть, как
можно
было предположить по увертюре, окатил асфальт перед собой струей
темно‑вишневой
рвоты, пахнущей кровью и одеколоном, и его огромный живот уменьшился
сразу
наполовину. – Где я? – озираясь, спросил он
голосом, уже немного
напоминающим голос прежнего Сэма.
– Вы у
друзей, – сказал полураздавленный Арнольд, чувствуя, как
слабеет сдавившая
его плечо рука. – Не волнуйтесь.
Сэм помотал головой и
посмотрел на огромную кровавую лужу у себя под ногами.
– Что
происходит? – спросил он.
– Понимаете, –
заговорил Артур, – произошла техническая ошибка. Попался
бракованный
экземпляр. Вы не думайте, что все у нас «Русский лес»
пьют…
От этих слов глаза Сэма
сразу заволокло прежней мутью, и он снова сгреб Артура с Арнольдом.
– А ну
пошли, –
сказал он.
– Куда это? –
испуганно спросил Артур.
– Увидишь. Пить им,
сукам, захотелось…
Увлекая за собой слабо
сопротивляющихся компаньонов, Сэм сделал несколько монументальных шагов
по
аллее в сторону набережной, и его снова вырвало, на этот раз намного
более
основательно. Широкий темный ручей, обдав Артура с Арнольдом небывалым
запахом
(так могли бы пахнуть, наверное, картонные орхидеи демонстрантов),
заструился
по асфальтовому уклону. Арнольд почувствовал, что кисть, только что
крюком
тягача тащившая его за собой, теперь сама цепляется за его шею в
поисках опоры.
– Вроде
все, –
сказал он Артуру, перехватывая руку Сэма. – Проведем его по
набережной,
пусть отдышится.
– Что это с ним
было? – спросил Артур.
– Не очень
устойчивая психика, – ответил Арнольд. – Перепил
крови и потерял
контроль. Что‑то вроде транса.
Аллея кончилась, и все
трое пошли по набережной. Сэм уже передвигался сам, слегка пошатываясь
и
поправляя очки, на одном из стекол которых успела появиться трещина.
– Сэм, вы в
порядке? – спросил Арнольд.
– Кажется,
да, – слабым голосом ответил Сэм.
– Идти сами можете?
– Господа, –
сказал Сэм, – прошу меня извинить. Я в ужасе от своего
поведения.
– Ерунда
какая, – весело сказал Арнольд. – Подумаешь. Мы
уж и забыли все.
– Говорил
я, –
влез Артур, – отдохнуть надо сначала.
– Я
извиняюсь, – сказал Сэм, – а где мой портфель?
Арнольд огляделся по сторонам.
Кейса нигде не было видно.
– Вот незадача. А
что у вас там? Что‑нибудь ценное?
– Ничего особенного.
Материалы для консервации. Видеокамера. Но как теперь пробы брать?
– Ясно, –
сказал Арнольд, – вы его там и забыли. Сейчас
вернемся… Ну хорошо, хорошо,
Сэм. Понимаю. Я лично слетаю и все выясню.
– Но какой шквал
эмоций, – проговорил Сэм, – какой водопад чувств!
Поверите, меня чуть
не смело.
Артур с Арнольдом бережно
усадили худенькое дрожащее тело на лавку и устроились по бокам. Сэм
мелко
дрожал.
– Успокойтесь,
Сэм, – по‑матерински зашептал Арнольд, – видите,
как вокруг хорошо и
тихо. Вон чайки летают, девушки ходят. Вон кораблик плывет. Красота
какая, а?
Сэм поднял глаза. Сквозь
туман по бетонным плитам набережной уже брели первые утренние
отдыхающие. Со
стороны столовой долетели два голоса: детский, что‑то неразборчиво
спросивший,
и авторитетный басок, так же неразборчиво что‑то ответивший.
Из тумана появился
невысокий усатый мужчина в спортивном костюме. Следом плелся мальчик с
наполненной чем‑то тяжелым пляжной сумкой в руке. Он догнал мужчину и
пошел
рядом, косясь на Сэма и его спутников. На ногах у мальчика были синие
вьетнамки, и он шаркал левой ногой, потому что одна из резиновых
тесемок была
порвана.
– Папа, видел, какие
странные дяди? – сказал мальчик, когда лавка осталась позади.
Отец сплюнул на дорогу.
– Пьянь, –
сказал он. – Будешь себя так вести, тоже вроде них вырастешь.
Откуда‑то в его руках
появился кусок слежавшегося навоза. Он кинул его сыну, и мальчик еле
успел
подставить руки. Из отцовских слов было не очень ясно, как надо или не
надо
себя вести, чтобы вырасти таким, как эти дяди, но едва в ладони
шлепнулся
теплый навоз, все стало понятно, и мальчик молча опустил папин подарок
в сумку.
Из тумана выплыла длинная
и узкая палатка, похожая на стоящий на боку спичечный коробок. Внутри
за
разноцветными сигаретными пачками, парфюмерными флаконами и позорными
кооперативными штанами скучала продавщица. За ее спиной дымилось
замызганное
стекло гриль‑машины, в которой жарились белые равнодушные куры. На
стене
палатки висел динамик, из которого рывками вылетала музыка, словно ее
сквозь
черную пластмассовую сетку прокачивал невидимый велосипедный насос.
– Простите, а где
тут пляж? – спросил отец у продавщицы.
Продавщица высунула руку
из окошка и молча указала пальцем в туман.
– Гм… А сколько
вон
те стаканчики стоят? – спросил отец.
Продавщица тихо ответила.
– Ничего
себе, – сказал отец. – Ну давайте.
Он протянул стаканчики
сыну, тот положил их в сумку, и они двинулись дальше. Палатка исчезла,
а
впереди появился небольшой мост. За ним туман оказался еще гуще –
ясно был
виден только бетон под ногами, и еще по сторонам просвечивали размытые
зеленые
полосы, похожие не то на огромные стебли травы, не то на деревья.
Вместо неба
над головой был низкий белый свод тумана, а слева иногда появлялись
пустые
бетонные емкости для земли с ребристыми стенками – они
расширялись кверху и из‑за
этого напоминали перевернутые пивные пробки.
– Папа, –
спросил мальчик, – а из чего состоит туман?
Отец задумался.
– Туман, –
сказал он, протягивая сыну несколько маленьких кусочков
навоза, – это
мельчайшие капельки воды, висящие в воздухе.
– А почему они не
падают на землю?
Отец поразмышлял и
протянул мальчику еще кусок.
– Потому что они
очень маленькие, – сказал он.
Мальчик опять не успел
заметить, откуда папа взял навоз, и поглядел по сторонам, словно
пытаясь
разглядеть эти маленькие капельки.
– Мы не
заблудимся? – озабоченно спросил он. – Ведь вроде
уже должен быть
пляж.
Отец не ответил. Он молча
шел сквозь туман, и ничего не оставалось делать, кроме как следовать за
ним.
Мальчику померещилось, что они с отцом ползут у подножия главной елки
мира
сквозь огромные клочья ваты, изображающей снег, ползут неясно куда и
отец лишь
делает вид, что знает дорогу.
– Папа, и куда это
мы только идем, идем…
– Чего?
– Так…
Мальчик поднял глаза и
увидел сбоку неясное мерцание. В белой мгле нельзя было разобрать, где
находится его источник и что это светится – то ли часть тумана
совсем рядом
сияет голубым огнем, то ли издалека пытается пробиться луч включенного
неизвестно кем прожектора.
– Папа, гляди!
Отец поднял глаза и
остановился.
– Что это такое?
– Не знаю, –
сказал отец, трогаясь дальше. – Наверно, фонарь какой‑нибудь
забыли
погасить.
Мальчик пошел следом,
косясь на уплывающий назад свет.
Несколько минут они шли
молча; мальчик иногда оглядывался, но света больше не было видно. Зато
в голову
опять стали приходить странные, ни на что не похожие мысли, какие в
нормальном
месте никогда не возникли бы.
– Слышишь,
пап, – сказал мальчик, – мне сейчас вдруг
показалось, что мы с тобой
давно заблудились. Что мы только думаем, что идем на пляж, а никакого
пляжа на
самом деле нет. И даже страшно стало…
Отец рассмеялся и
потрепал мальчика по голове. Потом в его руках откуда‑то появился такой
здоровый
кусок навоза, что его хватило бы на голову крупной навозной бабы.
– Знаешь, как в
народе говорят, – сказал он, передавая кусок
сыну, – жизнь прожить –
не поле перейти.
Мальчик уклончиво кивнул,
с трудом втиснул папин подарок в свою сумку и перехватил ее поудобнее,
потому
что тонкий полиэтилен ручек уже начал растягиваться.
– А бояться не
надо, – сказал отец, – этого не надо… Ты
ведь мужчина, солдат. На
вот.
Получив новый кусок
навоза, мальчик попытался удержать его в руках, но сразу же выронил, а
следом
на бетон шлепнулась сумка, и там хрустнули, разбившись, стаканы.
Мальчик сел на
корточки у сумки, из которой при падении вывалилась большая часть
навоза,
потрогал ее рукой, испуганно поднял глаза на отца, но вместо ожидаемой
хмурой
гримасы обнаружил на его лице торжественное и немного официальное
умиление.
– Вот ты и стал
взрослым, – помолчав, сказал отец и вручил сыну новую
пригоршню
навоза. – Считай, сегодня твой второй день рождения.
– Почему?
– Теперь ты уже не
сможешь нести весь навоз в руках. У тебя теперь будет свой Йа, как у
меня и
мамы.
– Свой Йа? –
спросил мальчик. – А что такое Йа?
– Посмотри сам.
Мальчик внимательно
поглядел на отца и вдруг увидел рядом с ним большой полупрозрачный
серо‑коричневый
шар.
– Что это? –
испуганно спросил он.
– Это мой
Йа, –
сказал отец. – И теперь такой же будет у тебя.
– А почему я его
раньше не видел?
– Ты был еще
маленьким. А сейчас ты вырос достаточно и уже можешь увидеть священный
шар сам.
– А почему он такой
зыбкий? Из чего он?
– Зыбким, –
сказал отец, – тебе шар кажется потому, что ты только что
его увидел.
Когда привыкнешь, поймешь, что это самая реальная вещь на свете. А
состоит он
из чистого навоза.
– А‑а, –
протянул мальчик, – так вот где ты все время навоз брал. А
то ты его мне
все даешь, даешь, но откуда – непонятно. У тебя его вон сколько,
оказывается. А
какое ты слово сказал?
– Йа. Это священный
египетский слог, которым навозники уже много тысячелетий называют свой
шар, – торжественно ответил отец. – Пока твой Йа
еще маленький, но
постепенно он будет становиться все больше и больше. Часть навоза дадим
тебе мы
с мамой, а потом ты научишься находить его сам.
Мальчик все еще сидел на
корточках, недоверчиво глядя на отца. Отец улыбнулся и чмокнул губами.
– А где я буду
находить навоз? – спросил мальчик.
– Вокруг, –
сказал отец и указал рукой в туман.
– Но там же никакого
навоза нет, папа.
– Наоборот, там один
навоз.
– Я не
понимаю, – сказал мальчик.
– Держи. Сейчас
поймешь. Чтобы все вокруг стало навозом, надо иметь Йа. Тогда весь мир
окажется
в твоих руках. И ты будешь толкать его вперед.
– Как это можно
толкать вперед весь мир?
Отец положил руки на шар
и чуть толкнул его вперед.
– Это и есть весь
мир, – сказал он.
– Что‑то я не
понимаю, – сказал мальчик, – как это навозный шар
может быть всем
миром. Или как это весь мир может стать навозным шаром.
– Не все
сразу, – сказал отец, – подожди, пока твой Йа
станет побольше, тогда
поймешь.
– Шарик же
маленький.
– Это только так
кажется, – сказал отец. – Посмотри, сколько
навоза я тебе сегодня
дал. А мой Йа от этого совсем не уменьшился.
– Но если это весь
мир, то что же тогда все остальное?
– Какое остальное?
– Ну, остальное.
Отец терпеливо улыбнулся.
– Я знаю, это сложно
понять, – сказал он. – Но, кроме навоза, ничего
просто нет. Все, что
я вижу вокруг, – отец широким жестом обвел
туман, – это на самом деле
Йа. И цель жизни – толкать его вперед. Понимаешь? Когда смотришь
по сторонам,
просто видишь Йа изнутри.
Мальчик наморщился и
некоторое время думал. Потом он начал сгребать вывалившийся перед ним
навоз
ладонями и с удивительной легкостью за несколько минут слепил шар, не
особо
круглый, но все же несомненный. Шар был высотой точь‑в‑точь с мальчика,
и это
показалось ему странным.
– Папа, –
сказал он, – ведь только что навоза у меня была всего одна
сумка. А здесь
его полгрузовика. Откуда он взялся?
– Здесь весь навоз,
который мы с мамой дали тебе с рождения, – сказал
отец. – Ты его все
время нес с собой, просто не видел.
Мальчик оглядел стоящий
перед ним шар.
– Значит, теперь
надо толкать его вперед?
Отец кивнул головой.
– А все вокруг и
есть этот шар?
Отец опять кивнул.
– Но как же я могу
одновременно видеть этот шар изнутри и толкать его вперед?
– Сам не
знаю, – развел руками отец. – Вот когда
вырастешь, станешь философом
и всем нам объяснишь.
– Хорошо, –
сказал мальчик, – если ничего, кроме навоза, нет, то кто же
тогда я? Я‑то
ведь не из навоза.
– Попробую
объяснить, – сказал отец, погружая руки в шар и передавая
сыну еще
горсть. – Правильно, вот так, вот так, ладошками…
Теперь погляди
внимательно на свой шар. Это ты и есть.
– Как это так? Я
ведь вот, – сказал мальчик и показал на себя большим пальцем.
– Ты неправильно
думаешь, – сказал отец. – Ты логически рассуждай.
Если ты говоришь
про что‑то «Йа», то значит, это ты и есть. Твой Йа и есть
ты.
– Мое ты и есть
Йа? – переспросил мальчик. – Или твое ты?
– Нет, –
сказал
отец, – твой Йа и есть ты. Сядь на лавку, успокойся и сам
все увидишь.
То, что отец назвал
лавкой, было длинным и толстым бревном квадратного сечения, лежащим на
границе
видимости. Один его торец сильно обгорел – видно, перекинулся
огонь из
подожженной урны, – и теперь лавка напоминала во много раз
увеличенную
спичку. Мальчик подкатил свой Йа к лавке, уселся и поглядел на отца.
– А туман не
помешает? – спросил он.
– Нет, –
ответил отец. – Вон, гляди, уже почти видно. Только больше
никуда не
смотри.
Мальчик поглядел на папу,
недоверчиво пожал плечами и уставился в неровную поверхность своего
свежеслепленного
шара. Под его взглядом она постепенно разгладилась и даже заблестела.
Потом она
начала делаться прозрачной, и внутри шара стало заметно движение.
Мальчик
вздрогнул.
Из глубины шара на него
глядела шипастая черная голова с крошечными глазками и мощными
челюстями. Шеи
не было – голова переходила в твердый черный панцирь, по бокам
которого
шевелились зазубренные черные лапки.
– Что это
такое? – спросил мальчик.
– Это отражение.
– Чего?
– Ну как же так?
Ведь только что все понял, а? Давай опять логически. Спроси себя сам
– если я
вижу перед собой отражение и знаю, что передо мной Йа, что я вижу?
– Себя,
наверно, – сказал мальчик.
– Вот, –
сказал
отец, – понял наконец.
Мальчик задумался.
– Но ведь отражение
всегда бывает в чем‑то, – сказал он, поднимая взгляд на
рогатую и черную
папину морду, поблескивающую бусинками глаз.
– Правильно, –
сказал отец, – ну и что?
– В чем оно?
– Как в чем? Ну ты
даешь. Все же у тебя перед глазами. Конечно, в самом себе, в чем же еще?
Мальчик долго молчал,
вглядываясь в навозный шар, а потом закрыл лапками морду.
– Да, –
наконец
сказал он изменившимся голосом. – Конечно. Понял. Это Йа.
Конечно, это же
Йа и есть.
– Молодец, –
сказал отец, слезая со спички и чуть привставая на четырех задних
лапках, чтобы
передними ухватиться за свой шар. – Идем дальше.
Туман вокруг достиг такой
плотности, что скорее походил на клубы пара в бане, и о движении можно
было
судить только по медленно уплывающим назад насечкам на бетоне. Через
каждые три
метра из белого небытия появлялись забитые грязью щели между плитами
– в
некоторых росла трава. На краях плит были неглубокие выемки с ржавыми
железными
скобами, предназначенными для крюка подъемного крана. Больше об
окружающем мире
ничего нельзя было сказать.
– А Йа есть только у
навозников? – спросил мальчик.
– Почему? Йа есть у
всех насекомых. Собственно говоря, насекомые и есть их Йа. Но только
скарабеи в
состоянии его видеть. И еще скарабеи знают, что весь мир – это
тоже часть их
Йа, поэтому они и говорят, что толкают весь мир перед собой.
– Так что, выходит,
все вокруг тоже навозники? Раз у них есть Йа?
– Конечно. Но те
навозники, которые про это знают, называются скарабеями. Скарабеи
– это те, кто
несет древнее знание о сущности жизни, – сказал отец и
похлопал лапкой по
шару.
– А ты скарабей,
папа?
– Да.
– А я?
– Еще не
совсем, – сказал отец. – Над тобой должно
совершиться главное
таинство.
– А что это за
главное таинство?
– Понимаешь,
сынок, – сказал отец, – его природа настолько
непостижима, что лучше
о ней даже не говорить. Просто подожди, пока это произойдет.
– А долго ждать?
– Не знаю, –
сказал отец. – Может, минуту. А может, три года.
Он с выдохом толкнул свой
шар дальше и побежал за ним.
Глядя на отца, мальчик
старательно копировал все его движения. Отцовские руки при каждом
толчке
глубоко погружались в навоз, и было непонятно, как это он успевает их
вытаскивать.
Мальчик попытался так же
глубоко погрузить руки в шар, и с третьей попытки это удалось –
для этого
просто надо было сложить пальцы щепоткой. Поворачиваясь, шар утаскивал
за собой
руки, и выскочить они успевали только тогда, когда казалось, что ноги
вот‑вот
оторвутся от земли. «А что, если еще глубже?» –
подумал мальчик и изо всех сил
воткнул руки в навоз. Шар покатился вперед, ноги мальчика оторвались от
земли,
и сердце екнуло, словно он первый раз в жизни делал
«солнышко» на качелях. Он
взлетел вверх, замер на миг в полуденной точке и понесся вниз вместе с
накатывающейся на бетон навозной сферой. Падая, он понял, что шар
сейчас
проедет по нему, но даже не успел испугаться. Наступила тьма, а когда
мальчик
пришел в себя, его уже поднимала вверх та самая навозная полусфера,
которая
только что придавила его к бетону.
– Доброе
утро, – послышался папин голос. – Как спалось?
– Что же это такое,
папа? – спросил мальчик, пытаясь перебороть головокружение.
– Это жизнь,
сынок, – ответил отец.
Поглядев в его сторону,
мальчик увидел серо‑коричневый шар, катящийся вперед сквозь белую мглу.
Папы
нигде не было – но, приглядевшись, мальчик заметил на поверхности
навоза
размазанный нечеткий силуэт, который крутился вместе с шаром. В этом
силуэте
можно было выделить туловище, руки, ноги и даже два глаза, взгляд
которых был
устремлен одновременно и внутрь шара, и наружу. Эти глаза печально
смотрели на
мальчика.
– Молчи, сынок,
молчи. Йа знаю, что ты спросишь. Да. Со всеми происходит именно это.
Мы,
скарабеи, просто единственные, кто это видит.
– Папа, –
спросил маленький шар, – а почему же Йа раньше думал, что ты
идешь за
своим шаром и толкаешь его вперед?
– А это потому,
сынок, что ты был еще маленький.
– И всю жизнь так,
башкой о бетон…
– Но все‑таки жизнь
прекрасна, – с легкой угрозой сказал отец. –
Спокойной ночи.
Мальчик глянул вперед и
увидел наезжающую на глаза бетонную плиту.
– Доброе
утро, – сказал большой шар, когда тьма
рассеялась, – как настроение?
– Никак, –
ответил маленький.
– А ты старайся,
чтобы оно у тебя было хорошее. Ты молодой, здоровый – о чем тебе
грустить? То
ли де…
Большой шар вздрогнул и
замолчал.
– Ты ничего не
слышишь? – спросил он у маленького.
– Ничего, –
ответил тот. – А что Йа должен слышать?
– Да вроде… Нет,
показалось, – сказал большой шар. – О чем Йа
говорил?
– О настроении.
– Да. Ведь мы сами
создаем себе настроение и все остальное. И надо стремиться,
чтобы… Опять.
– Что? –
спросил
маленький.
– Шаги. Не слышишь?
– Нет, не слышу.
Где?
– Впереди, –
ответил большой шар, – как будто слон бежит.
– Это тебе
кажется, – сказал маленький. – Спокойной ночи.
– Спокойной ночи.
– Доброе утро.
– Доброе
утро, – вздохнул большой. – Может, и кажется. Ты
знаешь, Йа ведь
старый уже. Здоровье шалит. Иногда утром проснусь и думаю – вот
так буду где‑нибудь
катиться и…
– Почему, –
сказал маленький, – вовсе ты не старый.
– Старый,
старый, – с грустью отозвался большой. – Скоро
тебе уже придется обо
мне заботиться. А ты небось не захочешь…
– Как не захочу?
Захочу.
– Это ты сейчас так
думаешь. А потом у тебя своя жизнь начнется, и… Вот опять.
– Что
опять? –
нетерпеливо спросил маленький шар.
– Шаги. Ой… А
теперь
колокол бьет. Не слышишь?
Большой шар остановился.
– Покатили
вперед, – сказал маленький шар.
– Нет, –
сказал
большой, – ты катись, а Йа тебя догоню.
– Ладно, –
согласился маленький и исчез в тумане.
Большой шар оставался на
месте. Никаких шагов больше слышно не было, и он медленно тронулся
вперед.
– Сынок! –
крикнул он. – Эй! Ты где?
– Йа здесь, –
ответил голос из тумана. – Спокойной ночи!
– Спокойной ночи!
– Доброе утро!
– Доброе
утро! – крикнул большой шар, покатился в сторону, откуда
долетел ответ, и
двигался довольно долго, пока не стало ясно, что они с сыном
разминулись.
– Эй! –
крикнул
он снова. – Ты где?
– Йа здесь.
На этот раз голос долетел
издалека и слева. Большой шар двинулся было туда, но сразу же испуганно
замер.
Впереди раздался громоподобный удар, такой сильный, что даже бетон под
ногами
мелко задрожал. Следующий удар раздался ближе, и навозный шар увидел
огромную
красную туфлю с острым каблуком, врезавшимся в бетон в нескольких
метрах
впереди.
– Папа! Йа теперь
тоже слышу шаги! Что это? – долетел далекий голос сына.
– Сынок! –
отчаянно прокричал отец.
– Папа!
Мальчик закричал от
страха и поднял взгляд. Над его головой мелькнула тень, и на миг ему
показалось, что он видит красную туфлю с темным пятном на подошве,
уносящуюся в
небо, и еще показалось, что в неимоверной высоте, куда взмыла туфля,
возник
силуэт огромной расправившей крылья птицы. Мальчик с трудом отлепил
руки от
навозного шара и кинулся к месту, откуда последний раз долетел
отцовский голос.
Через несколько шагов он наткнулся на большое темное пятно на асфальте,
поскользнулся и чуть не упал.
– Папа, –
тихо
сказал он.
Видеть то, что осталось
от папы, было слишком тяжело, и он, постепенно понимая, что произошло,
побрел
назад к своему шару. Перед его глазами встала добрая папина морда со
страшными
только на вид хитиновыми рогами и полными любви бусинками глаз, и он
заплакал.
Потом он вспомнил, как папа, протягивая ему кусок навоза, говорил, что
слезами
горю не поможешь, и перестал плакать.
«Папина душа полетела на
небо, – подумал он, вспомнив быстро уносящееся вверх пятно
на огромной
подошве, – и я уже ничем не смогу ему помочь».
Он поднял взгляд на шар,
удивился, каким тот стал большим за последнее время, потом посмотрел на
свои
руки и со вздохом положил их на теплую податливую поверхность навоза.
Поглядев
последний раз туда, где оборвалась папина жизнь (ничего, кроме тумана,
видно
уже не было), он толкнул Йа вперед.
Шар был таким массивным,
что требовал всего внимания и всей силы, и мальчик полностью погрузился
в свой
нелегкий труд. В его голове мелькали смутные мысли – сначала о
судьбе, потом о
папе, потом о себе самом, – и скоро он приноровился, и уже
не надо было
толкать шар, достаточно было просто бежать вслед за ним на тонких
черных
лапках, чуть приподняв морду, чтобы длинный хитиновый вырост на нижней
челюсти
не цеплял за шар. А еще через несколько шагов лапки достаточно глубоко
увязли в
навозе, шар поднял мальчика, обрушил на бетон, и жизнь вошла в свое
русло, по
которому шар и покатился вперед.
Бетонная плита наезжала
на глаза, и наступала тьма, а когда появлялся свет, оставалась только
слабая
память о том, что минуту назад снилось что‑то очень хорошее.
«Йа вырасту большой,
женюсь, у меня будут дети, и Йа научу их всему, чему меня научил папа.
И Йа
буду с ними таким же добрым, каким он был со мной, а когда Йа стану
старым, они
будут обо мне заботиться, и все мы проживем долгую счастливую
жизнь», –
думал он, просыпаясь и поднимаясь по плавной окружности навстречу
новому дню
движения сквозь холодный туман по направлению к пляжу.
Вверху были только небо и
облако в его центре, похожее на чуть улыбающееся плоское лицо с
закрытыми
глазами. А внизу долгое время не было ничего, кроме тумана, и когда он
наконец
рассеялся, Марина так устала, что еле держалась в воздухе. С высоты
было
заметно не так уж много следов цивилизации: несколько бетонных молов,
дощатые
навесы над пляжем, корпуса пансионата и домики на далеких склонах. Еще
были
видны глядящая ввысь чаша антенны на вершине холма и стоящий рядом
вагончик из
тех, что называют наваристым словом «бытовка». Вагончик и
антенна были ближе
всего к небу, с которого медленно спускалась Марина, и она разглядела,
что
антенна ржавая и старая, дверь вагончика крест‑накрест заколочена
досками, а
стекла в его окне выбиты. От всего этого веяло печалью, но ветер пронес
Марину
мимо, и она сразу же забыла об увиденном. Расправив полупрозрачные
крылья, она
сделала в воздухе прощальный круг, взглянула напоследок в бесконечную
синеву
над головой и стала выбирать место для посадки.
Выбирать было особенно не
из чего – достаточно пустого пространства было только на
набережной, и Марина
понеслась над бетонными плитами, еще в воздухе начав перебирать ногами.
Посадка
чуть не кончилась катастрофой, потому что в плитах попадались
металлические
решетки для стока воды и Марина чудом не угодила в одну из них тонким
каблуком.
Коснувшись ногами земли, она быстро побежала вперед, стуча красными
каблучками
по бетону, метров через тридцать погасила инерцию, остановилась и
огляделась.
Первым объектом, с
которым она встретилась в новом для себя мире, оказался большой
фанерный щит,
где были нарисованы несбывшееся советское будущее и его прекрасные
обитатели, – Марина на минуту впилась глазами в их выцветшие
нордические
лица, над которыми висели похожие на ватрушки из «Книги о вкусной
и здоровой
пище» космические станции, а потом перевела взгляд на закрывавшую
полстенда
афишу, написанную от руки на ватмане широким плакатным пером:
ПРИШЕЛЬЦЫ СРЕДИ НАС
Лекция о летающих
тарелках и их пилотах
Новые факты. Демонстрация
фотографий
Для желающих после лекции
проводится
СЕАНС ЛЕЧЕБНОГО ГИПНОЗА
Лекцию и сеанс проводит
лауреат
Воронежского слета
экстрасенсов
кандидат технических наук
А.У. Пауков
В кустах за афишей
подрагивали последние сгустки тумана, но небо над головой было уже
ясным, и с
него вовсю светило солнце. В конце набережной был мост над впадающим в
море
сточным ручьем, а за ним стоял ларек, от которого доносилась музыка
– именно
такая, какая и должна играть летним утром над пляжем. Справа от Марины,
на
лавке перед душевым павильоном, дремал старик с гривой желтовато‑седых
волос, а
в нескольких метрах слева, возле похожих на маленькую белую виселицу
весов,
ждала клиентов женщина в медицинском халате.
Марина услыхала шуршание
крыльев, подняла голову и увидела еще двух снижающихся муравьиных
самок,
повторяющих маневры, которые несколько минут назад проделала она. С их
плеч
свисали точно такие же сумки, как у Марины, и одеты они были так же
– в
джинсовые юбки, кооперативные блузки и красные туфельки на острых
каблуках. Та,
что летела впереди и ниже, пронеслась над ограждением набережной и,
набирая
высоту, помчалась над морем. Вторая пошла было на посадку, потом,
видно,
передумала и быстро замахала крыльями, пытаясь подняться, но было уже
поздно, и
она на всей скорости врезалась в витрину палатки. Раздались звон стекол
и
крики; Марина сразу же отвела глаза, успев только заметить, что к месту
происшествия кинулись несколько прохожих.
Рядом по набережной,
задрав крылья и балансируя сумкой, пробежала еще одна только что
приземлившаяся
перепончатокрылая самка. Марина поправила на плече сумочку,
развернулась и
неспешно пошла вдоль длинного ряда скамеек.
На душе у нее стало легко
и покойно, и если бы еще не жали туфельки, было бы совсем хорошо.
Навстречу
попадались загорелые волосатые мужчины в плавках – они оценивающе
обводили
стройную Маринину фигуру глазами, и от каждого такого взгляда делалось
тепло и
начинало сладко сосать под ложечкой. Марина дошла до моста над ручьем,
полюбовалась белой полосой пены на границе моря и суши, послушала шорох
перекатывающейся под волнами гальки и повернула назад.
Через несколько шагов она
ощутила неясное томление – пора было что‑то сделать. Марина никак
не могла
взять в толк, что именно, пока не обратила внимания на тихий шелест за
спиной.
Тогда она сразу поняла – или, скорее, вспомнила.
Крылья, которые до сих
пор волочились за ней по пыли, были не нужны. Она подошла к краю
тротуара,
огляделась по сторонам и нырнула в кусты. Там она присела, сунула руку
за
плечо, поймала ладонью основание крыла и изо всех сил дернула. Ничего
не
произошло – крыло держалось слишком прочно. Марина дернула
второе, и тоже
безрезультатно. Тогда она наморщила лоб и задумалась.
– А, ну да, –
пробормотала она и открыла сумочку. Первым, что попалось ей под руку,
был
небольшой напильник.
Пилить крылья было не
больно, но все же неприятно; особенно раздражал скребущий звук, от
которого в
лопатках возникало подобие зубной боли. Наконец крылья упали в траву, и
от них
остались только выступы возле лопаток и две дыры в кофточке. Марина
сунула
напильник в сумку, и в ее душу вернулся радостный покой. Она вынырнула
из
кустов на залитую светом набережную.
Мир вокруг был прекрасен.
Но в чем именно заключалась эта красота, сказать было трудно: в
предметах, из
которых состоял мир – в деревьях, скамейках, облаках, прохожих
– ничего
особенного вроде бы не было, но все вместе складывалось в ясное
обещание
счастья, в честное слово, которое давала жизнь непонятно по какому
поводу. У
Марины внутри прозвучал вопрос, выраженный не словами, а как‑то по
другому, но
означавший несомненно:
«Чего ты хочешь,
Марина?»
И Марина, подумав,
ответила что‑то хитрое, тоже не выразимое словами, но вложила в этот
ответ всю
упрямую надежду молодого организма.
– Вот такие
песни, – прошептала она, глубоко вдохнула пахнущий морем
воздух и пошла по
набережной навстречу сияющему дню. Вокруг прохаживалось довольно много
муравьиных самок; они ревниво поглядывали друг на друга и на Марину, на
что она
отвечала такими же взглядами; впрочем, смысла в этом не было, потому
что
различий между ними не существовало абсолютно никаких.
Не успела Марина
подумать, что надо бы чем‑нибудь себя занять, как увидела прибитую к
деревянному столбу стрелку с надписью:
КООПЕРАТИВ «А/О ЛЮЭС»
Видеобар с непрерывным
показом
французских
художественных фильмов
Стрелка указывала на
тропинку, ведущую к большому серому зданию за деревьями.
Видеобар оказался затхлым
подвалом с кое‑как подмалеванными стенами, пустыми сигаретными пачками
над
стойкой и мерцающим в углу экраном. Сразу за дверью Марину остановил
выпуклый
мужик в спортивном костюме и потребовал два шестьдесят за вход. Марина
полезла
в сумку и нашла там маленький кошелек из черного дерматина; в кошельке
оказались два мятых рубля и три двадцатикопеечные монеты. Она
пересыпала их в
мускулистую ладонь, которая сжала деньги тремя пальцами, а четвертым
указала на
свободное место за столиком.
Вокруг большей частью
были недавно приземлившиеся девушки в дырявых на спине блузках.
Телевизор, в
который они завороженно глядели, очень напоминал небольшой аквариум, по
единственной прозрачной стене которого время от времени пробегала
радужная
рябь. Марина устроилась поудобней и тоже стала глядеть в аквариум.
Внутри плавал мордастый
мужчина средних лет в накинутой на плечи дубленке. Подплыв к стеклу, он
влажно
поглядел на Марину, а потом сел в машину красного цвета и поехал домой.
Жил он
в большой квартире, с женой и похожей на Жанну д'Арк юной служанкой,
которая по
сюжету вроде не была его любовницей, но немедленно заставила Марину
задуматься
– трахнул он ее во время съемок или нет.
Мужчина любил очень
многих женщин, и часто, когда он стоял у залитого дождем окна, они
обнимали его
за плечи и задумчиво припадали щекой к надежной спине. Тут в фильме
было явное
противоречие – Марина ясно видела, что спина у мужчины очень
надежная (она даже
сама мысленно припала к ней щекой), но, с другой стороны, он только и
делал,
что туманным утром бросал заплаканных женщин в гостиничных номерах, и
на
надежности его спины это не сказывалось никак. Чтобы его напряженная
половая
жизнь обрела необходимую романтическую полноту, вокруг иногда возникали
то
африканские джунгли, где он, чуть пригибаясь под пулями и снарядами,
брал
интервью у командира наемников, то Вьетнам, где он в кокетливо
сдвинутой каске,
с журналистским микрофоном в руке, под дивную французскую песню –
тут Марине на
глаза навернулись прозрачные слезы – брел среди призывно
раскинувшихся трупов
молоденьких американцев, которым мордастый мужчина, несмотря на
возраст, совсем
не уступал в отваге и мужской силе. Словом, фильм был очень тонкий и
многоплановый, но Марину интересовало только развитие сюжета, и она с
облегчением вздохнула, когда герой снова оказался в старом добром
Париже, в
гостиничном номере, за окном которого было туманное утро, и к его
широкой и
надежной спине припала окончательная щека.
Под конец Марина так ушла
в свои мечты, что толком не заметила, как погас волшебный аквариум и
она оказалась
на улице; в себя она пришла от ударившего в глаза солнца, поспешила в
тень и
пошла по кипарисовой аллее, примеряя к своей жизни самые понравившиеся
кусочки
фильма.
Вот она лежит в кровати,
на ней желтый шелковый халат, а на тумбочке рядом стоит корзина цветов.
Звонит
телефон, Марина снимает трубку и слышит голос мордастого мужчины:
– Это я. Мы
расстались пять минут назад, но вы позволили звонить вам в любое время.
– Я уже
сплю, –
грудным голосом отвечает Марина.
– В это время в
Париже сотни развлечений, – говорит мужчина.
– Хорошо, –
отвечает Марина, – но пусть это будет что‑то оригинальное.
Или так: Марина (в узких
темных очках) запирает автомобиль, и остановившийся рядом мордастый
мужчина
делает тонкое замечание об архитектуре. Марина поднимает глаза и
смотрит на
него с холодным интересом:
– Мы знакомы?
– Нет, –
отвечает мужчина, – но могли бы быть знакомы, если бы жили в
одном номере…
Вдруг Марина позабыла про
фильм и остановилась.
«Куда это я иду?»
–
растерянно подумала она и поглядела по сторонам.
Впереди была одинокая
белая пятиэтажка с обвитыми плющом балконами, перед пятиэтажкой –
иссеченный
шинами пыльный пустырь, на краю которого пованивала декоративная белая
мазанка
придорожного сортира. Еще были видны пустая автобусная остановка и
несколько глухих
каменных заборов. Марина совершенно четко ощутила, что вперед ей идти
не надо,
оглянулась и поняла, что возвращаться назад тоже незачем.
«Надо что‑то
сделать», – подумала она. Что‑то очень похожее на
ампутацию крыльев, но
другое – вроде бы она только что это помнила и даже шла по аллее
с туманным
пониманием того, куда и для чего она направляется, но сейчас все
вылетело из
головы. Марина ощутила то же томление, что и на набережной.
– Если бы мы жили в
одном номере, – пробормотала она, – в одном
но… О Господи.
Она хлопнула себя по лбу.
Надо было начинать рыть нору.
Подходящее место нашлось
рядом с главным корпусом пансионата – в широкой щели между двумя
гаражами, где
земля была достаточно сырой и годилась для рытья. Марина туфелькой
раскидала
пустые бутылки и ржавую консервную жесть, открыла сумочку, вынула
новенький
красный совок и, присев на корточки, глубоко погрузила его в сухой
крымский
суглинок.
Первый метр она осилила
без особого труда – после слоя почвы началась смешанная с песком
глина, рыть
которую было несложно. Правда, когда край ямы оказался на уровне груди,
она
пожалела, что не сделала нору шире – было бы легче выкидывать
землю. Но вскоре
она придумала, как облегчить себе работу. Сначала она как следует
разрыхляла
грунт под ногами, а потом, когда его набиралось много, горстями
выкидывала за
край ямы. Иногда встречались обломки кирпичей, камни, осколки старых
бутылок и
гнилые корни давно срубленных деревьев – это осложняло работу, но
не сильно.
Марина была настолько поглощена своим занятием, что не знала, сколько
прошло
времени; выкидывая из ямы очередной мокрый булыжник, она заметила, что
небо уже
потемнело, и очень удивилась.
Наконец яма достигла
такой глубины, что, выкидывая землю, Марине приходилось подниматься на
цыпочки,
и она почувствовала, что пора рыть вбок. Это оказалось сложнее, потому
что
грунт здесь был неподатливый и совок часто лязгал о камни, но делать
было
нечего; Марина, сжав зубы, на время растворила свою личность в работе,
и от
всего мира остались только земля, камни и совок. Когда она пришла в
себя,
первая камера была почти готова. Вокруг царила темнота, и, когда Марина
выползла из бокового хода в вертикальную часть норы, высоко над ее
головой
загадочно мигали звезды.
Марина чувствовала
оглушительную усталость, но знала, что ложиться спать ни в коем случае
нельзя.
Она вылезла из ямы на поверхность и стала раскидывать отработанную
землю, чтобы
никто не заметил входа в нору. Земли было слишком много, и Марина
поняла, что
поблизости всю ее не спрятать. Она чуть подумала, сняла с себя юбку и
завязала
подол узлом. Получился довольно вместительный мешок. Марина ладонями
затолкала
в него столько земли, сколько влезло, с трудом закинула груз на плечо
и,
пошатываясь, пошла к пустырю. Светила луна, и сначала Марине было
страшно выйти
из тени, но потом она решилась, быстро пробежала по залитому голубым
светом
пустырю за гаражами и ссыпала землю на обочине дороги. Второй раз это
было уже
не так страшно, а в третий она даже перестала коситься на окна
пятиэтажки, в
которых не то горели тусклые лампы, не то просто отражалась луна.
Быстро
перемещаться мешали туфельки – каблук одной из них сломался,
когда она рыла
нору. Марина скинула их, поняв, что они больше не нужны.
Бегать босиком стало
легче, и довольно скоро на краю дороги выросла куча земли, словно
сброшенная
самосвалом, а вход в нору перестал быть заметен со стороны. Марина
валилась с
ног, но у нее все же хватило сил отыскать кусок картонного сигаретного
ящика с
нарисованным зонтиком и красной надписью «Parisienne»,
которым она, спускаясь в
нору, прикрыла вход. Теперь все было сделано. Она успела.
– Хорошо, –
пробормотала она, со счастливой улыбкой сползая по шершавой земляной
стене на
пол и вспоминая мордастого мужика из фильма, – хорошо. Но
пусть это будет
что‑нибудь оригинальное…
Весь следующий день она
спала – один только раз ненадолго проснулась, подползла к выходу
и, чуть
отодвинув картонку, выглянула наружу. В нору ударил косой солнечный луч
и
долетел щебет птиц, такой счастливый, что даже показался ненатуральным,
словно
на дереве сидел покойный Иннокентий Смоктуновский и щелкал соловьем.
Марина
вернула картонку на место и поползла назад в камеру.
Когда она проснулась в
следующий раз, первое, что она почувствовала, был голод. Марина открыла
сумку,
которая раньше решала все ее проблемы, но там остались только узкие
черные
очки, совсем как у девушки из фильма. Марина решила вылезти наружу и
тут заметила,
что юбки, из которой прошлой ночью получился мешок, нигде нет –
видно, она так
и осталась у дороги вместе с последней порцией земли. Туфелек на ногах
тоже не
было – Марина вспомнила, что сбросила их, когда они стали мешать.
Лезть в таком
виде наружу нечего было и думать. Марина села на землю и заплакала, а
потом
опять уснула.
Когда она проснулась,
было темно. За время сна что‑то в ней изменилось – теперь Марина
не
раздумывала, можно ли выходить в таком виде наружу. Она просто нащупала
в
темноте совок, откинула картонку, вылезла, присела и подняла глаза к
небу.
Удивительно красива
крымская ночь. Темнея, небо поднимается выше, и на нем ясно проступают
звезды.
Из всесоюзной здравницы Крым незаметно превращается в римскую
провинцию, и в
душе оживают невыразимо понятные чувства всех тех, кто так же стоял
когда‑то на
древних ночных дорогах, слушал треск цикад и, ни о чем особо не думая,
глядел в
небо. Узкие и прямые кипарисы кажутся колоннами, оставшимися от давно
снесенных
зданий, море шумит точно так же, как тогда (что бы это
«тогда» ни значило), и
перед тем, как толкнуть навозный шар дальше, успеваешь на миг ощутить,
до чего
загадочна и непостижима жизнь и какую крохотную часть того, чем она
могла бы
быть, мы называем этим словом.
Марина опустила глаза и
потрясла головой, чтобы собраться с мыслями. Мысли натряслись такие:
надо
сходить на рынок и выяснить обстановку.
Марина медленно пошла к
темной скале пансионата, высоко поднимая ноги, чтобы не споткнуться.
Вокруг
видно почти ничего не было, и, как Марина ни осторожничала, через
несколько
шагов она ступила в ямку и упала, чуть не сломав сустав. От боли у нее
прояснилось в голове, и Марина поняла, что на четвереньках двигаться
гораздо
удобней и безопасней. Она вприпрыжку потрусила вперед, выскочила на
обсаженную
цветами освещенную дорожку и побежала к фонарям набережной –
перемещалась она
на трех лапках, потому что в четвертой был сжат зазубренный и
ободранный долгой
работой совок.
Рынок оказался просто
частью набережной под металлическим навесом. Вокруг никого не было, и
Марина
принялась шарить возле пустых прилавков, пытаясь отыскать хоть
что‑нибудь
съедобное. Минут за двадцать она нашла множество давленых груш и яблок,
несколько слив, два полуобглоданных кукурузных початка и совершенно
целую
виноградную гроздь. Она наполнила всем этим найденный здесь же рваный
пластиковый пакет и пошла к пустым столикам возле угасшего мангала
– днем она
заметила, как здесь пили пиво и ели шашлык, и решила посмотреть, не
осталось ли
чего на столах.
– Самка, где
виноград брали?
Марина от неожиданности
так испугалась, что чуть не выронила сумку. Но когда она оглянулась, то
испугалась еще сильнее и отпрыгнула на несколько шагов назад. Перед ней
стояла
худая женщина в измазанных глиной синих трусах и рваной блузке. Ее
глаза дико
горели, волосы были перепачканы землей и всклокочены, а руки и ноги
сильно
исцарапаны. Одной рукой она прижимала к груди фанерный ящик с
объедками, а в
другой держала точно такой же совок, как у Марины, и по этому совку
Марина
поняла, что перед ней тоже муравьиха.
– А там
вон, –
ответила она и показала совком в сторону прилавков, – только
там нет
больше. Кончился.
Женщина сладко улыбнулась
и шагнула к Марине, не спуская с нее горящих глаз. Марина сразу все
поняла,
пригнулась и выставила перед собой совок. Тогда женщина бросила ящик в
траву,
зашипела и прыгнула на Марину, целясь ей головой в живот. Марина успела
заслониться от удара пакетом и смазала женщину совком по лицу, а потом
еще
пнула ногой. Самка в синих трусах завизжала и отскочила.
– Катись отсюда,
гадина! – крикнула Марина.
– Сама
гадина, – пятясь и дрожа, прошипела женщина. –
Поналетели тут к нам,
суки позорные…
Марина шагнула к ней,
размахнулась совком, и женщина быстро‑быстро убежала в темноту. Марина
склонилась над ее ящиком, выбрала несколько мягких мокрых помидоров
получше и
положила в свой пакет.
– Еще кто к кому
поналетел! Сраная уродина! – победно крикнула она в ту
сторону, где
скрылась женщина, и зашагала к мосту; не дойдя до него нескольких
метров, она
остановилась, подумала, вернулась и захватила брошенный сраной уродиной
ящик.
«Какая
страшная», –
с омерзением думала она по дороге.
Сложив продукты в углу
норки, Марина опять вылезла и, словно на крыльях, на четвереньках
понеслась к
пансионату. У нее было очень хорошее настроение.
– Вот такие
песни, –
шептала она, зорко вглядываясь во тьму.
Наконец она нашла то, что
искала, – на газоне стоял маленький стог сена, накрытый
полиэтиленом.
Марина заметила его еще в первый день. За несколько рейдов она
перетаскала к
себе все сено, потом, удивляясь и радуясь своей лихости, подкралась к
стене
пансионата и медленно пошла вдоль нее, пригибаясь, когда проходила мимо
окон.
Одно из них было открыто, и из‑за него доносилось громкое дыхание
спящих.
Марина, отвернувшись, чтобы случайно не увидеть своего отражения в
стекле,
подкралась к черному проему, подпрыгнула, одним сильным и красивым
движением
сорвала висевшую в окне штору и, не оборачиваясь, кинулась назад к
норке.
Зеркало в тяжелой раме из
тусклого дерева, висевшее над спинкой кровати, казалось совершенно
черным,
потому что отражало самую темную стену комнаты. Иногда Митя щелкал
зажигалкой,
и по черной поверхности зеркала проходили оранжевые волны, но зажигалка
быстро
нагревалась, и ее приходилось гасить. Из окна на кровать падало
чуть‑чуть
света, хотя уже был вечер и на танцплощадке начала играть музыка.
Сквозь
марлевую занавеску можно было различить в темноте далекие вспышки
разноцветных
ламп – точнее, не сами вспышки, а их отсветы на листве.
Митя лежал в полутьме,
задрав ноги в кроссовках на высокую решетчатую спинку кровати, и
поглаживал
рукой Марка Аврелия Антонина, сплющенного веками в небольшой зеленый
параллелепипед, листать который было уже темно. Рядом лежала другая
книга,
китайская, называвшаяся «Вечерние беседы комаров У и Цэ».
«Удивительно, –
думал он, – чем глупее песня и чем чище голос, тем больше
она трогает.
Только ни в коем случае не надо задумываться, о чем они поют. Иначе
все…»
Лежать дальше было
утомительно. Митя вынул из книги исписанный лист бумаги, сложил его
вчетверо,
сунул в карман и встал. Нашарив на столе сигареты, он отпер дверь и
вышел
наружу. Узкий проход между курортными домиками освещало только соседнее
окно;
были видны калитка, лавка у проволочной изгороди и длинные бледные
травы в
русле высохшего ручья. Митя запер дверь, увидел свое отражение в стекле
и
хмыкнул. С тех пор как он понял, что уже вылез из кокона, он стал
выглядеть в
темноте довольно странно. Тяжелые крылья, сложенные на его спине,
казались
плащом из серебряной парчи, доходившим почти до земли, и Мите иногда
бывало
интересно, что видят на их месте другие.
За светящейся занавеской
соседнего домика играли в карты и разговаривали. Там жила семейная
пара, а
сейчас у них, судя по голосам, были гости.
– Теперь
черви, – говорил мужской голос. – Ну конечно,
жизнь изменилась,
Оксан. Ты еще спрашиваешь. С тобой все по‑другому стало.
– Ну, а лучше или
хуже? – требовательно спросил тонкий женский голосок.
– Ну как… Теперь
ответственность появилась, – задумчиво ответил мужской
голос. – Знаю,
куда после работы идти. Ну и ребенок, сама понимаешь… Играю
втемную.
– У тебя же и так
минус четыреста, – вмешался другой мужской голос.
– А что
делать? – спросил первый. – Шестерка червей.
Митя зажег сигарету (на
огонек зажигалки метнулись несколько крохотных насекомых), прошел через
калитку
и перепрыгнул сухое русло. Осторожно преодолев несколько метров полной
темноты,
он продрался сквозь кусты, вышел на асфальт, остановился и поглядел
назад.
Светлая линия дороги доходила до вершины холма и обрывалась, а дальше
были
видны черные силуэты гор. Одна из гор, та, что справа, напоминала со
стороны
моря огромного бронированного орла, наклонившего голову вперед; с
катера,
который ходил по вечерам мимо, бывали иногда заметны непонятные огни на
вершине
– наверное, там стоял маяк. Сейчас огней не было.
Сделав несколько затяжек,
Митя кинул окурок на асфальт, тщательно раздавил его и медленно побежал
вниз по
дороге. Через несколько шагов его подхватила волна воздуха, он пронесся
между
кронами деревьев, поджал ноги, чтобы не зацепить натянутый между двумя
столбами
электрический провод (тот был невидим в темноте, один раз Митя уже
ободрал о
него голень), и, когда вверху осталось только чистое темное небо, стал
широкими
кругами набирать высоту. Вскоре стало прохладнее, спина заныла от
усталости;
Митя решил, что поднялся достаточно высоко, и поглядел вниз.
Внизу, как и в любой
другой вечер, горели редкие фонари и окна. Источников света, достаточно
ярких
для того, чтобы возникло хотя бы слабое желание направиться к ним, было
мало –
две ресторанные вывески, розовая неоновая язвочка слова «А/О
ЛЮЭС» на углу
темной башни пансионата и мерцающее зарево расположенной рядом
танцплощадки. С
высоты она была похожа на большой раскрытый цветок, все время меняющий
цвета и
вместо запаха источающий музыку, которая была слышна даже здесь.
Инстинкт гнал
к этому цветку всех окрестных насекомых каждый раз, когда чья‑то лапка
включала
электричество, и Митя решил спуститься посмотреть, что там сейчас
происходит.
Снизившись, он полетел на
бреющем, почти цепляя верхушки деревьев. Когда танцплощадка
приблизилась, она
перестала походить на цветок и превратилась во что‑то виденное в
детстве,
новогоднее – это был огромный клубок просвечивающих сквозь ветви
электрических
гирлянд, из которого сочилась музыка удивительной пошлости и красоты.
– Твоя вишневая
«де‑вят‑ка»
давно свела меня с ума, – пела неизвестная сумасшедшая из
десятка мощных
динамиков.
Внимательно вглядываясь в
несущуюся под ногами тропинку, на которую он обычно садился, Митя
широко раскрыл
крылья, повернул их навстречу бьющему в лицо воздуху – они
задрожали под ветром
– и повис на месте. Мягко спружинив о сухую твердую землю, он
сошел с тропинки
и зашагал по газону.
Танцплощадка была просто
асфальтовым полем за высоким проволочным забором. К забору прилепилась
невысокая деревянная эстрада, на которой громоздились черные коробки
динамиков.
По периметру площади в несколько рядов стояли занятые народом лавки, а
само
пространство для танцев было, как автобус в час червей, заполнено
извивающимися
распаренными телами. Митя заплатил за вход, миновал нескольких
бутылочного
цвета мух и сел на краю лавки. За вечер состав толпы успевал полностью
смениться несколько раз; устав, народ расползался по лавкам или уходил
совсем,
но на смену вставали другие, и танец ни на миг не прерывался. Митя
любил
размышлять о том, как это похоже на жизнь, – правда,
наслаждаться своей
отрешенностью немного мешало сознание того, что он тоже почему‑то сидит
вместе
со всеми на лавке и глядит на чужие потные лица.
Вдруг музыка стала
громче, лампы погасли, а потом стали по очереди вспыхивать на долю
секунды,
вырывая из темноты то зеленую, то синюю, то красную
монолитно‑неподвижную
толпу, которая в короткие моменты своего существования напоминала
свалку
гипсовых фигур, свезенных сюда со всех советских скверов и
пионерлагерей; так
прошло несколько минут, и стало ясно, что на самом деле нет ни танцев,
ни
танцплощадки, ни танцующих, а есть множество мертвых парков культуры и
отдыха,
каждый из которых существует только ту долю секунды, в течение которой
горит
лампа, а затем исчезает навсегда, чтобы на его месте через миг появился
другой
парк культуры и отдыха, такой же безжизненный и безлюдный, отличающийся
от
прежнего только цветом одноразового неба и углами, под которыми согнуты
конечности
статуй.
Митя встал, пробрался
мимо весело жужжащих девочек в зеленых и синих платьицах и вышел за
ворота, у
которых сидели несколько качков в тренировочных костюмах
предостерегающей
окраски. В просвете между деревьями было виден тускло горящий лиловый
фонарь.
Он ярко загорелся, несколько раз мигнул и погас, и Митя, подчиняясь
неожиданному импульсу, пошел вперед, во тьму.
Деревья, закрывавшие
небо, скоро кончились, и из кустов на Митю задумчиво глянул
позеленевший бюст
Чехова, возле которого блестели под лунным светом осколки разбитой
водочной
бутылки. Набережная была пуста. Под одним из тусклых фонарей сидела
компания
доминошников с пивом, издававшая бодрые голоса и стук. Митя подумал,
что
обязательно надо будет искупаться, и пошел вдоль шеренги скамеек,
призывно
повернутых женственным изгибом к морю.
– Еще кто к кому
поналетел! Сраная уродина! – донесся со стороны рынка
триумфальный женский
крик.
Закурив сигарету, Митя
увидел впереди темную фигуру, опершуюся локтями на парапет.
Он разглядел тяжелый
длинный плащ серебристого оттенка и недоверчиво покачал головой.
– Дима! –
позвал он.
– Митя? –
ответила фигура. – Все‑таки прилетел?
– Еще кто к кому
поналетел, – ответил Митя, подходя и пожимая протянутую
руку. – Ты
кого‑нибудь ждешь?
Дима помотал головой.
– Пройдемся?
Дима кивнул.
Они спустились на пляж по
скрипящей деревянной лестнице, прошли по крупной хрустящей гальке и
оказались
перед узкой полосой пены. К луне по морю шла широкая и прямая
серебряная
дорога, цветом напоминающая крылья ночного мотылька.
– Красиво, –
сказал Митя.
– Красиво, –
согласился Дима.
– Тебе никогда не
хотелось полететь к этому свету? В смысле, не просто проветриться, а
по‑настоящему,
до конца?
– Хотелось
когда‑то, –
сказал Дима. – Только не мне.
Они повернули и медленно
пошли вдоль сияющей границы моря.
– Ты здесь один?
– Я всегда
один, – ответил Дима.
– В последнее время
я заметил, – сказал Митя, – что от частого
употребления некоторые
цитаты блестят, как перила.
– А что ты еще в
последнее время заметил? – спросил Дима.
Митя задумался.
– Смотря что
называть последним временем, – сказал он. – Мы
сколько не виделись –
год?
– Около того.
– Ну, например,
зимой я заметил одну вещь. Что дома большую часть времени мы живем в
темноте.
Не в переносном смысле, а в самом прямом. Вот, помню, стою я на кухне и
говорю
по телефону. А под потолком слабая желтая лампочка горит. И тут я
поглядел в
окно, и меня как током ударило – до чего же темно…
– Да, –
сказал
Дима, – со мной тоже что‑то похожее было. А потом я еще одну
вещь понял –
что мы в этой темноте живем вообще все время, просто иногда в ней
бывает чуть
светлее. Собственно, ночным мотыльком становишься именно в тот момент,
когда
понимаешь, какая вокруг тьма.
– Не знаю, –
сказал Митя. – По‑моему, деление мотыльков и бабочек на
ночных и дневных –
чистая условность. Все в конце концов летят к свету. Это же инстинкт.
– Нет. Мы делимся на
ночных и дневных именно по тому, кто из нас летит к свету, а кто
– к тьме. К
какому, интересно, свету ты можешь лететь, если думаешь, что вокруг и
так светло?
– Так что же, они
все, – Митя кивнул в сторону набережной, – летят
во тьму?
– Почти.
– А мы?
– Конечно, к свету.
Митя засмеялся.
– Прямо каким‑то
заговорщиком себя чувствуешь, – сказал он.
– Брось. Это они
заговорщики. Абсолютно все. Даже эти, которые в домино наверху играют.
– Честно
говоря, – сказал Митя, – у меня нет ощущения, что
я сейчас лечу к
свету.
– Если ты
думаешь, – сказал Дима, – что мы куда‑то летим, а
не просто идем по
пляжу, то ты, без всякого сомнения, летишь в темноту. Точнее, кружишься
вокруг
навозного шара, принимая его за лампу.
– Какого шара?
– Не важно, –
сказал Дима. – Есть такое понятие. Хотя, конечно, вокруг
такая тьма, что
ничего удивительного в этом нет.
Некоторое время они шли
молча.
– Вот
смотри, –
сказал Митя, – ты говоришь – тьма. Я сегодня вечером
поглядел по сторонам
– действительно, тьма. А на танцплощадке народ, все смеются,
танцуют, и песня
играет, вот как сейчас. Глупая страшно. Вишневая «девятка»
и все такое прочее.
А меня эта музыка почему‑то трогает.
– Бывает, –
сказал
Дима.
– Я тебе даже так
скажу, – с горячностью продолжал Митя, – если
самый главный питерский
сверчок возьмет лучшую шотландскую волынку и споет под нее весь
«Дао дэ цзин»,
он и на сантиметр не приблизится к тому, во что эти вот
идиоты, – Митя
кивнул в сторону, откуда доносилась музыка, – почти попадают.
– Да во что
попадают?
– Не знаю, –
сказал Митя. – Как будто раньше было в жизни что‑то
удивительно простое и
самое главное, а потом исчезло, и только тогда стало понятно, что оно
было. И
оказалось, что абсолютно все, чего хотелось когда‑то раньше, имело
смысл только
потому, что было это самое главное. А без него уже ничего не нужно. И
даже
сказать про это нельзя. Ты знаешь, до какого огня я действительно хотел
бы
долететь? Было такое стихотворение, вот послушай: «Не жизни жаль
с томительным
дыханьем, что жизнь и смерть? А жаль того огня, что просиял над целым
мирозданьем, и в ночь идет, и плачет, уходя…»
– По‑моему, –
сказал Дима, – не тебе жалеть этот огонь. Уместней было бы,
если бы этот
огонь пожалел тебя. Или ты считаешь, что ты сам этот огонь, который
идет во
тьму и плачет?
– Может, и считаю.
– Тогда не иди во
тьму, – сказал Дима. – Тебя же никто не
заставляет.
Над танцплощадкой
зазвучала новая песня – женщина печально спрашивала у темного
неба, луны и двух
бредущих по пляжу фигур в темных плащах, где она сегодня, и жаловалась,
что не
знает, где ей найти не то себя, не то еще кого‑то – последнее
слово было неразборчивым,
но это не имело значения, потому что дело было не в словах и даже не в
музыке,
а в чем‑то другом, в том, что все вокруг тоже погрузилось в печаль и
размышляло, где оно сегодня и как ему найти не то себя, не то что‑то
еще.
– Нравится? –
спросил Митя.
– Ничего, –
сказал Дима. – Но главное достоинство в том, что она не
понимает, о чем
поет. Так же, как твой приятель, который не нашел ничего лучше, как
пожалеть
свет, уходя во тьму.
– Это не мой
приятель, – сказал Митя.
– Ну и
правильно, – сказал Дима, – я бы с таким тоже
никаких дел иметь не
стал. Понимаешь, все, что вызывает жалость у мертвецов, основано на
очень
простом механизме. Если мертвецу показать, например, муху на липучке,
то его
вырвет. А если показать ему эту же муху на липучке под музыку, да еще
заставить
на секунду почувствовать, что эта муха – он сам, то он немедленно
заплачет от
сострадания к собственному трупу.
– Выходит, и я тоже
мертвый? – спросил Митя.
– Конечно, –
сказал Дима, – а какой же еще? Но тебе это хоть можно
объяснить. А потому
ты уже не совсем мертвый.
– Спасибо, –
сказал Митя.
– Пожалуйста.
Они поднялись на
набережную. Доминошники уже исчезли, и от них остались только
колеблемая ветром
газета, несколько сдвинутых ящиков, пустые пивные бутылки и рыбья
чешуя; из‑за
меланхолии, которую навеяла музыка, казалось, что они не просто
разошлись по
домам, а рассосались в окружающей тьме – для полноты ощущения не
хватало только
их выветренных скелетов рядом с бутылками и чешуей.
– А чего это ты о
танцплощадке заговорил? – спросил Дима.
– Я там был сейчас.
Спустился даже, посидел немного. Очень странно. Вроде видно, что все
они
мертвые, прямо как из гипса. Знаешь, есть такая игрушка – два
деревянных
медведя с молотками? Двигаешь деревянную палочку взад‑вперед, и они
бьют по
наковальне.
– Знаю.
– Так вот там то же
самое. Все танцуют, смеются, раскланиваются, а посмотришь вниз –
и видишь, как
под полом бревна ходят. Взад‑вперед.
– Ну и что?
– Как ну и что? Ведь
летели‑то они все на свет. А как ни летай, светится только
танцплощадка. И
получается, что все вроде бы летят к жизни, а находят смерть. То есть в
каждый
конкретный момент движутся к свету, а попадают во тьму. Знаешь, если бы
я писал
роман о насекомых, я бы так и изобразил их жизнь – какой‑нибудь
поселок у моря,
темнота, и в этой темноте горит несколько электрических лампочек, а под
ними
отвратительные танцы. И все на этот свет летят, потому что ничего
больше нет.
Но полететь к этим лампочкам – это…
Митя щелкнул пальцами,
подыскивая подходящее слово.
– Не знаю, как
объяснить.
– А ты уже
объяснил, – сказал Дима. – Когда про Луну
говорил. Луна и есть
главная танцплощадка. И одновременно главная лампочка главного Ильича.
Абсолютно то же самое. Свет не настоящий.
– Да нет, –
сказал Митя. – Свет настоящий. Свет всегда настоящий, если
он виден.
– Правильно, –
сказал Дима. – Свет настоящий. Только откуда он?
– Что значит
«откуда»? От Луны.
– Да? А тебе никогда
не приходило в голову, что она на самом деле абсолютно черная?
– Я бы сказал, что
она скорее желто‑белая, – ответил Митя, внимательно поглядев
вверх. –
Или чуть голубоватая.
– Скажи. Пять
миллиардов мух с тобой, конечно, согласятся. Но ведь ты не муха. Из
того, что
ты видишь желтое пятно, когда смотришь на Луну, совершенно не следует,
что она
желтая. Я вообще не понимаю, как этого можно не понять. Ведь прямо
вверху висит
ответ на все вопросы.
– Может
быть, –
сказал Митя, – но у меня, к сожалению, ни одного из этих
вопросов не
возникает. Впрочем, я тебя понял. Ты хочешь сказать, что когда я смотрю
на
Луну, то вижу солнечный свет, который она отражает, а сама она не
светится. По‑моему,
это не важно. С меня достаточно того, что свет существует. И когда я
его вижу,
то главное, что есть во мне, заставляет меня двигаться в направлении к
свету. А
откуда он, какой он – это все не особо важно.
– Ну хорошо. К Луне
ты двигаться не желаешь. А к какому свету ты идешь сейчас?
– К ближайшему
фонарю.
– А потом куда?
– К следующему.
– Ладно, –
сказал Дима, – давай тогда поставим эксперимент на одном
насекомом.
Он вытянул вперед руку,
сделал такое движение, словно повернул невидимый выключатель, и вдруг
все
фонари на набережной погасли.
Митя остановился.
– А к какому свету
ты направишься сейчас? – спросил Дима.
– Ну ты даешь. Как
ты это сделал?
– Именно
так, –
сказал Дима, – как ты подумал. Договорился с монтером, чтобы
тот сидел в
кустах и ждал, когда я дам ему знак. И все это исключительно для того,
чтобы
произвести на тебя впечатление.
– Я так подумал?
– А разве нет?
– Ну, в общем, да.
Правда, не совсем так. Я действительно подумал про монтера и про знак,
но
только не про кусты.
– Про кусты ты тоже
подумал.
– Да, я не о
фонарях. Я о Луне. Точнее, о лунном свете и Чехове, но это не важно.
– Что? Мысли читаю?
– Да нет, это я сам
могу. Чужие несложно. Я о фонарях.
– Очень просто. Если
ты ответил себе на один вопрос, то можешь управлять всеми видами света.
– Какой
вопрос? – спросил Митя.
– Вообще лучше
самому задать его себе, но поскольку ты не очень склонен это сделать,
тебе
задам его я.
Дима выдержал паузу.
– Луна отражает
солнечный свет, – сказал он. – А свет чего
отражает Солнце?
Митя молча сел на
скамейку и откинулся на спинку.
Было тихо; ветер шевелил
листву над головой, и шум моря сливался с последними нотами затихающей
песни –
казалось, этот смешанный звук идет на самом деле от желтого круга
висящей в
небе танцплощадки. Потом добавился рокот приближающегося к причалу
прогулочного
катера, и слева появились его медленно наплывающие огни.
– American boy, уеду
с тобой, уеду с тобой – Москва, прощай, – взвились над
танцплощадкой два
чистых юных голоса, и долетел аккомпанемент балалаек, простой и
трогательный,
как платье пионерки.
Крохотный планер пронесся
так близко от выступающих из горного склона зубьев скал, что на
мгновение почти
слился со своей тенью, и над столиками летнего кафе раздался дружный
вздох.
Скользящий в небе треугольник, похожий на серебристую ночную бабочку, в
последний момент развернулся и полетел над морем, приближаясь к пляжу.
Сэм
зааплодировал, и Артур перевел взгляд на него.
– Вас это так
впечатляет? – спросил он.
– Как вам
сказать, – отозвался тот. – Я в молодости
занимался чем‑то подобным,
поэтому в состоянии оценить чужое мастерство. Пройти так близко к
скалам лично
я не решился бы.
– А я вообще не
понимаю, зачем так бессмысленно рисковать жизнью, – сказал
Артур.
– Мы с вами, если
задуматься, тоже рискуем ею каждый день, – заметил Сэм.
– Но ведь,
согласитесь, по необходимости. А взять и просто расшибить лоб о скалы
очень не
хотелось бы.
– Это
верно, –
сказал Сэм, задумчиво следя за треугольником, который опять повернул к
скалам, – верно. А откуда они стартуют?
– Вон гора, –
сказал Артур. – Видите?
Далеко за пляжем и
поселком виднелась невысокая гора, длинная и пологая, на вершине
которой можно
было разглядеть несколько разноцветных планеров. Сэм вынул маленький
коричневый
блокнот с золотой надписью «Memo executive», что‑то в нем
записал и даже
схематично зарисовал пляж, поселок и пологую гору.
– Там все время
восходящий поток, – сказал Артур. – Поэтому они
ее и облюбовали.
Подошла официантка со
строгим, как у судьбы, лицом и молча сгрузила с подноса на стол
тарелки,
бутылку шампанского и несколько бокалов. Сэм недоуменно поднял на нее
глаза и
сразу отвел – на щеке официантки был огромный багровый лишай.
– Заказывали, –
пояснил Артур.
– А, –
улыбнулся Сэм. – Я уж и забыл.
– У нас ресторанная
категория, – сказала официантка. – Можете правила
посмотреть.
Ожидание до сорока минут.
Сэм рассеянно кивнул
головой и поглядел в свою тарелку. В меню блюдо называлось
«бiточкi по‑сiлянскi
з цiбулей». Оно состояло из нескольких маленьких прямоугольных
кусочков мяса,
лежавших в строгом архитектурном порядке, целого моря соуса справа от
мяса и
пологой горы картофельного пюре, украшенной несколькими цветными
точками
моркови и укропа. Картофельное пюре лавой наплывало на куски мяса, и
содержимое
тарелки походило на Помпеи с птичьего полета, одновременно странным
образом
напоминая панораму приморского городка, которая открывалась со столика.
Сэм
поднял вилку, занес ее над тарелкой и заметил сидящую на границе пюре и
соуса
молодую муху, которую он сначала принял за обрывок укропной метелочки.
Он
медленно протянул к ней руку – муха вздрогнула, но не
улетела, – осторожно
взял ее двумя пальцами и перенес на пустой стул.
Муха была совсем юной –
ее упругая зеленая кожа весело сверкала под солнцем, и Сэм подумал, что
английское название – «greenbottle fly» – очень
точное. Ее лапки были покрыты
темными волосками и кончались нежными розовыми присосками –
словно на каждой из
ладоней призывно темнело по два полуоткрытых рта, а талия была тонка
настолько,
что, казалось, могла переломиться от легчайшего дуновения ветра.
Застенчиво
подрагивающие крылья, похожие на две пластинки слюды, отливали всеми
цветами
радуги и были покрыты стандартным узором темных линий, по которым без
всякой
крыломантии можно было предсказать ее простую судьбу. Глаза у нее тоже
были
зелеными и глядели немного исподлобья, а со лба на них падала длинная
темная
челка, из‑за которой муха казалась даже моложе, чем была, и производила
впечатление школьницы, нарядившейся в платье старшей сестры. Поймав
взгляд
Сэма, муха чуть покраснела.
– How are
you? – спросила она, старательно выговаривая
слова. – I'm Natasha.
And what is your name?
– Сэм
Саккер, –
ответил Сэм. – Но мы можем говорить по‑русски.
Наташа улыбнулась,
показав ровные белые зубки, перевела быстрые глаза на презрительно
улыбающегося
Артура и сразу помрачнела.
– Я не
помешала? – спросила она и сделала такое движение, словно
собиралась
встать.
– Да как вам
сказать, – процедил Артур, глядя в сторону.
– Ну что
вы, –
быстро вмешался Сэм, – наоборот. Разве может такое
очаровательное существо
кому‑нибудь помешать? Шампанского?
– С
удовольствием, – ответила Наташа и двумя пальцами взяла
протянутый Сэмом
бокал.
– А вы тут
живете? – спросил Сэм.
Наташа отхлебнула
шампанского и утвердительно кивнула.
– Родились тут?
– Нет, –
сказала Наташа, – я родилась очень далеко, на севере.
– А чем занимаетесь?
– Музыкой, –
ответила Наташа, поставила бокал на стол и сделала такое движение,
словно
растягивала перед грудью эспандер.
– Да, –
сказал
Сэм, переводя взгляд с двух бугорков под блестящей зеленой тканью
Наташиного
платья на дешевый серебряный браслетик между заприсосьем и
запястьем, –
интересно было бы вас послушать.
– Простите, –
подал голос Артур, – вы не возражаете, если я отойду
позвонить? Арнольда
долго нет.
Сэм кивнул головой, и
Артур пошел к будке автомата, зажатой двумя кооперативными ларьками.
Возле
будки стояла очередь. Артур, заняв в ней место, принялся разглядывать
книги,
разложенные уличным торговцем прямо на газоне.
Наташа открыла лежавшую у
нее на коленях сумочку, достала напильник, с недоумением посмотрела на
него,
кинула назад и вытащила маленький косметический набор.
– А вы откуда,
Сэм? – спросила она, разглядывая себя в
зеркало. – Вы американец?
– Да, –
ответил
Сэм, – но живу большей частью в Европе. Вообще, даже сложно
сказать, где я
на самом деле живу, – большую часть времени летаю туда‑сюда.
– Вы бизнесмен?
Раскрыв цилиндрик с
помадой, Наташа подкрасила присоски на лапках, и у Сэма мелькнула
мысль, что
это делает ее вульгарной, но вдвойне привлекательнее.
– В общем можно
сказать так, – ответил он. – А больше всего в
жизни меня интересуют
новые впечатления.
– Ну и как, много
здесь новых впечатлений?
– Хватает, –
ответил Сэм. – Но они, знаете, на любителя.
На стол легла тень, и
донесся совершенно неуместный в начале осени густой запах цветущих трав
и
деревьев.
– А ты, значит, не
любитель? – раздался над ухом у Наташи громкий голос, от
чего она чуть не
выронила зеркальце.
Оглянувшись, Наташа
увидела невысокого толстяка в пестрой майке, который с ненавистью
глядел на
Сэма, поигрывая небольшим темным чемоданчиком.
– Арнольд! –
обрадовался Сэм. – А мы вас все ждем. Артур звонить пошел.
Ну как, удалось
что‑нибудь выяснить?
– Удалось, –
ответил Арнольд, швыряя кейс на стул рядом с Сэмом. – Все
теперь ясно
стало.
– Нашли! –
сказал Сэм, беря кейс в руки. – Ну, слава Богу. А я и не
заметил, что он у
вас с собой. Вот спасибо.
Раскрыв кейс, он бегло
осмотрел содержимое и, сомкнув кольцом большой и указательный пальцы,
показал
Арнольду кружок пустоты размером с металлический доллар. Толстяк
подтянул стул
от соседнего столика и тяжело сел.
– А это
Наташа, – сказал Сэм, – познакомьтесь. Наташа,
это Арнольд.
Арнольд повернул голову к
Наташе и впился в нее глазами.
– Понятно, –
сказал он, наглядевшись. – А вот чтобы пойти, к примеру, на
ткацкую
фабрику, крутильщицей или валяльщицей? Или волочильщицей? Это как? Не
хочешь?
– Что вы такое
говорите? – побледнев, прошептала Наташа. Ей в нос шибануло
густым одеколонным
запахом, она недоуменно подняла взгляд на Сэма и увидела, что улыбка
сползает с
его лица, а в глазах проступает явный ужас.
– Не пугайте
девушку, – сказал он, косясь в сторону телефонной будки,
откуда торопливо
шел Артур. – Наташа, это он шутит.
– Я? Шучу? Ты сюда,
сука, кровь прилетел пить и думаешь, мы с тобой шутки будем шутить?
– А кто это
«мы»? – быстро спросил Сэм.
– Сейчас
объясню, – сказал Арнольд, приподнимаясь со стула, и
неизвестно, что
произошло бы дальше, если бы подбежавший сзади Артур не обрушил на его
голову
полупустую бутылку шампанского.
Арнольд вместе со стулом
повалился на пол и замер. За соседними столиками стихли разговоры,
несколько
граждан даже приподнялись со своих мест, собираясь не то вмешаться, не
то
убежать. Артур быстро сел верхом на товарища и стал заламывать ему руку
за
спину. Это не очень получалось, хотя Арнольд вроде не сопротивлялся.
– Так и знал, что он
не удержится, – нервно бормотал Артур, – тоже
попробует. Говорил, у
вас психика неустойчивая. А у него, значит, устойчивая. Вы идите, пока
он в
себя не пришел, уведите девушку. А я…
Арнольд пошевелился, и
Артур чуть не свалился с него на асфальт.
– Идемте,
Наташа, – сказал Сэм, хватая Наташу за руку.
Они быстро вышли из‑за
столика и, разминувшись с бегущим к месту драки милиционером, быстро
пошли
прочь.
– Что это с ним?
Наркотики? – спросила Наташа.
– Примерно, –
ответил Сэм. – Я бы не хотел обсуждать чужую беду. Не
знаете, где здесь
можно перекусить? А то поесть так и не дали.
Наташа оглянулась на
толпу, сгрудившуюся среди ресторанных столиков.
– Все, –
сказала она, – свинтили дурня. Что вы говорите? Поесть? Это
надо на такси
ехать. Дойдем до «Волны» – они там ходят.
– Простите,
Наташа, – сказал Сэм, – может быть, у вас
какие‑нибудь планы?
В ответ Наташа поглядела
на Сэма с такой простодушной откровенностью, что все ее планы стали
сразу
понятны и видны.
Дорога шла мимо глубокого
котлована с руинами недостроенного здания. Из трещин в стенах росли
трава,
кусты и даже несколько молодых деревьев, и казалось, что это не
котлован,
вырытый под новостройку, а могила погибшего здания или раскопки
древнего
города. Сэм залюбовался и шел молча; притихла и Наташа.
– Да, –
сказал
Сэм, когда котлован остался позади. – Удивительно. Я тут
заметил одну
странную вещь. Россия ведь третий Рим?
– Третий, –
сказала Наташа, – точно. И еще второй Израиль. Это Иван
Грозный сказал. Я
в газете читала.
– Так вот, если
написать «третий Рим», а потом дописать слово
«Рим» наоборот, получится очень
интересно. С одной стороны будет читаться «третий Рим», а с
другой – «третий
мир».
– В Ялте, –
сказала Наташа, – часа три отсюда на катере, есть канатная
дорога.
Садишься на набережной и поднимаешься на гору. Там дворец строили или
музей
Ленина, не знаю. А потом бросили. И остались только колонны и часть
крыши. Все
огромное такое, и вокруг пустырь. Будто храм какой. Точно, третий Рим и
есть.
Сэм, а вы в первом были?
Сэм кивнул, и Наташа
тихонько вздохнула.
– Пришли, –
сказала она. – Здесь машину надо ловить.
Асфальтовая дорожка
кончалась у длинного здания, где помещались магазин и непонятное
заведение под
названием «Волна», перед которым грелись на солнце два
янычара в «Адидасе». Под
навесом автобусной остановки напротив сверкали белками несколько худых
и
загорелых южных старух. Наташа подняла руку; из тени ив, росших возле
остановки, выехала старая серая «Волга» с оленем на капоте.
Наташа наклонилась
к окошку, посовещалась с шофером, повернулась к Сэму и кивнула.
У шофера были длинные
рыжие усы, торчащие в стороны несколько несимметрично, словно он только
что
закончил что‑то ими ощупывать, а пахло в машине бензином и перезрелыми
персиками. Попетляв среди белых домиков, утонувших в листве яблонь и
груш,
«Волга» выехала на пыльную грунтовку. Шофер разогнал
машину, и пейзаж за задним
стеклом скрылся в густых клубах желтой пыли, большие порции которой
влетали в
окна.
Сэм закашлялся, закрыв
рот рукой, и Наташа заметила, что его губы вытягиваются в длинную
трубочку.
Делая вид, что поднимает что‑то с пола, он нагнулся к спинке переднего
сиденья,
заговорщицки подмигнул Наташе и в знак молчания приложил палец к своим
вытягивающимся губам. Наташа кивнула. Заострившийся на конце хоботок
Сэма мягко
вошел в серую обшивку сиденья. Шофер вздрогнул. Его глаза беспокойно
поглядели
на пассажиров из продолговатого зеркальца над рулем.
– А вы правда
думаете, Сэм, что у нас третий мир? – спросила Наташа,
стараясь отвлечь
шофера.
– Ну, в общем,
да, – не разгибаясь, промычал Сэм. – В этом нет
ничего обидного.
Если, конечно, не обижаться на факты.
– Непривычно как‑то.
– А придется
привыкнуть. Это геополитическая реальность. Ведь Россия – очень
бедная страна.
И Украина тоже. Тут… Как это выражение… Земля не родит.
Даже если взять самые
плодородные почвы где‑нибудь на Кубани, это будет ничто по сравнению с
землями,
скажем, в Огайо…
Сэм произнес
«ох‑хаййо»,
и звук получился такой, что его вполне можно было намазывать на
бутерброд
вместо масла, а уж какие плодородные земли в штате Огайо, стало ясно
сразу.
– Какой третий
мир, – с горечью сказал шофер, неестественно пошевелив
усами, –
продали нас. Как есть, всех продали. С ракетами и флотом. Кровь всю
высосали.
– Кто
продал? –
спросила Наташа. – И кому?
– Известно
кто, – с уверенной ненавистью сказал шофер. – И
кому, тоже известно.
Ладно флот продали – так ведь и честь нашу продали…
Сэм что‑то промычал, и
шофер вяло махнул рукой.
– В спину,
понимаешь, – пробормотал он и надолго затих.
Постепенно его лицо
сильно побледнело, а глаза, прежде бегающие и настороженные,
остекленели в
безразличии. Сэм, наоборот, покрылся румянцем, словно только что вышел
из бани.
Выдернув губы из сиденья и выпрямившись, он улыбнулся Наташе. Наташа
сосредоточенно молчала.
– Наташа, я вас не
обидел? – спросил Сэм.
– Чем? –
удивилась Наташа.
– Этим третьим
миром.
– Что вы, Сэм.
Просто мне в детстве нагадали, чтобы я боялась римской цифры
«три». Но я ее
нисколечки не боюсь. А обижаться мне никакого резона нет. Я ведь не
Россия. Я
Наташа.
– Наташа, –
сказал Сэм. – Красивое имя. Перейдем на «ты»?
– С
удовольствием, – сказала Наташа.
С обеих сторон дорогу
обступали виноградники. Когда они кончились, слева опять появилось
море. Сэм
раскрыл кейс, вынул оттуда маленькую стеклянную баночку, выплюнул в нее
немного
красной жидкости, завинтил крышку и кинул банку назад. Наташа тем
временем
напряженно размышляла – на лбу у нее даже образовалась маленькая
красивая
извилинка. Сэм поймал ее взгляд и улыбнулся.
– Все
о'кей? –
спросил он.
– Ага, –
улыбнулась в ответ Наташа. – Я вот о чем думаю. Ну,
допустим, первый мир –
это Америка, Япония там и Европа. Третий Рим, мир то есть, –
это, скажем,
мы, Африка и Польша. А что такое второй мир?
– Второй? –
удивленно спросил Сэм. – Хм. Не знаю. Действительно,
интересно. Надо
выяснить, откуда это выражение пошло. Наверно, никакого второго мира
просто
нет.
Он поглядел в окно и
заметил высоко в небе серебристый треугольник – то ли тот самый
планер, за
которым он следил из‑за столика в ресторане, то ли другой точно такой
же.
– Я другого понять
не могу, – сказал он, – куда это мы едем?
– Обедать, –
сказала
Наташа.
– Я уже
сыт, –
сказал Сэм.
– Тогда, может,
лучше тут затормозим? – предложила Наташа. –
Здесь места очень
красивые, дикие. Можно искупаться.
Сэм сглотнул слюну.
– Послушайте, –
сказал он шоферу, – мы, пожалуй, здесь вылезем, а?
– Ваше
дело, –
хмуро сказал шофер. – Давайте пять долларов, как обещали.
Сэм вылез на дорогу и
потянулся за кошельком.
– Матрешки не
нужны? – спросил шофер.
– Какие? –
спросил Сэм.
– Всякие есть.
Горбачев, Ельцин.
Сэм отрицательно покачал
головой.
– Будет чесаться
спина, – сказал он, протягивая пятерку в раскрытую
дверь, –
одеколоном протрите.
Шофер мрачно кивнул.
Машина развернулась на месте и, обдав их желтой пылью, рванула назад.
Стало
тихо. Сэм с Наташей пошли по тропинке, которая зигзагом сбегала вниз по
крутому
каменистому склону. Спускались они молча, потому что тропинка была
очень узкой
и идти по ней надо было осторожно.
Четкой линии берега внизу
не было – склон переходил в лабиринт скал, между которыми
плескалось море. Сняв
тапочки – Сэм с умилением понял, что на ногах у нее были розовые
домашние
тапочки, а не туфли необычного фасона, как он подумал
сначала, – Наташа
зашла по колено в воду. Сэм, подвернув штаны и разувшись, последовал за
ней,
держа кейс и мокасины над головой и пытаясь вспомнить, какую же
греческую
легенду ему напоминает происходящее. Они долго петляли меж коричневых
каменных
стен и наконец вышли к большой наклонной плите, поверхность которой
выступала
из воды примерно на полметра.
– Вот тут я
загорала, – сказала Наташа, залезая на камень. –
С той стороны можно
нырять – уже глубоко.
Забравшись на плиту, Сэм
полез за видеокамерой.
– Помоги,
Сэм, – попросила Наташа.
Повернувшись, Сэм увидел,
что она стоит к нему спиной и, заведя руку за спину, пытается
дотянуться до
тесемок, завязанных сзади. Осторожно положив камеру на мокасины, Сэм
прикоснулся к Наташе и сквозь платье почувствовал, как она вздрогнула.
Тесемки
абсолютно ничего не держали и были, как Сэм помнил из статьи в
«Нэшнл
Джиографик», просто наивным приспособлением для завязывания
знакомств, которым
пользовались русские девушки, – даже металлические шарики на
их концах
напоминали блесну. Но дрожь, прошедшая по Наташиной спине, заставила
Сэма
забыть о методике правильного поведения, которую рекомендовал журнал,
и, когда
Наташа перешагнула через упавшее на камень платье и осталась в
крохотном
купальнике из блестящей зеленой ткани, его руки сами потянулись к
камере.
Он долго снимал худенькое
полудетское тело Наташи, ее счастливую улыбку и волну летящих по ветру
волос,
снимал ее голову над изумрудной водой и мокрые отпечатки ступней на
камне, а
потом, передав Наташе камеру и объяснив, на что надо нажимать, бросился
в море
и рванул к возникшей вдали белой точке прогулочного катера таким
безоглядным
баттерфляем, словно и правда собирался достичь его вплавь.
Когда, тяжело дыша, он
вернулся на плиту, Наташа лежала на спине, ладонью прикрывая глаза от
солнца.
Сэм устроился рядом, положил щеку на теплую поверхность камня и,
прищурясь,
поглядел на Наташу.
– Вот вернусь
домой, – сказал он, – буду смотреть это по
телевизору и грустить.
– Сэм, –
сказала Наташа, – вот в Риме ты был, это я уже знаю. А во
Франции?
– Совсем
недавно, – ответил Сэм, придвигаясь к ней
поближе. – А почему ты
спрашиваешь?
– Так, –
вздохнув, сказала Наташа. – Мать у меня часто про Францию
говорила. Что ты
там делал?
– Как обычно, кровь
сосал.
– Нет, я не в том
смысле. Ты просто так взял и поехал?
– Не совсем. Меня
друзья пригласили. На ежегодный прустовский праздник в город Комбре.
– А что это за
праздник такой?
Сэм долго молчал, и
Наташа решила, что ему лень рассказывать. Где‑то стрекотала машина
прогулочного
катера. Совсем рядом раздалось несколько чуть слышных мажорных гитарных
аккордов, а потом послышалось тихое жужжание, и Наташа ощутила легкий
укол в
ногу; она рефлекторно хлопнула по этому месту ладонью – под ее
пальцами что‑то
расплющилось, скаталось в крошечный шершавый шарик и отлетело в воду.
Сэм заговорил
нараспев, гнусаво произнося некоторые звуки:
– Представь
небольшую сельскую церковь, построенную около пяти веков назад, с грубо
высеченными фигурами христианских королей, глядящих на площадь с
облетевшими
каштанами, ветви которых металлически блестят в свете нескольких
фонарей; на
брусчатке перед порталом появляется одинокий усатый мужчина, похожий на
мишень
из провинциального тира, и уже трудно сказать, что происходит потом,
когда
непреодолимая сила влечения отнимает у памяти мгновения полета,
оставляя ей
лишь короткие прикосновения бродящих наугад лапок к пропахшему
кельнской водой
и сигарным дымом шелку кашне и грубое…
– Сэм, –
прошептала Наташа, – что ты делаешь. Нас же увидят…
– …чем‑то даже
оскорбительное ощущение близости чужой кожи к твоему рту. Наслаждение
усиливается, когда начинаешь различать за прорванными занавесями
покровов,
отделяющих одно тело от другого, глухой шум, сначала ток крови…
– Ах, Сэм… Не
сюда…
– …а затем
–
повелительные удары сердца, подобные сигналам, посылаемым с планеты
Марс или из
какого‑то другого мира, так же недоступного нашему взору; их ритм и
задает то
страстные, то насмешливые движения твоего тела, в долгий выступ
которого,
блуждающий в пульсирующих лабиринтах чужой плоти, как бы перетекает все
сознание; и вдруг все кончается, и ты вновь плывешь куда‑то над старыми
камнями
мостовой…
– Сэм…
Сэм откинулся на камень и
некоторое время не чувствовал вообще ничего – словно и сам
превратился в часть
прогретой солнцем скалы. Наташа сжала его ладонь; приоткрыв глаза, он
увидел
прямо перед своим лицом две большие фасетчатые полусферы – они
сверкали под
солнцем, как битое бутылочное стекло, а между ними, вокруг мохнатого
ротового
хоботка, шевелились короткие упругие усики.
– Сэм, –
прошептала Наташа, – а в Америке много говна?
Сэм улыбнулся, кивнул
головой и снова закрыл глаза. Солнце било прямо в веки, и за ними
возникало
слабое фиолетовое сияние, на которое хотелось глядеть и глядеть без
конца.
Трудно было сказать,
сколько дней Марина углубляла нору и рыла вторую камеру. Дни бывают
там, где
встает и заходит солнце, а Марина жила и работала в полной тьме.
Сначала она
передвигалась на ощупь, но через некоторое время заметила, что неплохо
видит в
темноте, – заметила совершенно неожиданно, когда в середине
главной камеры
уже была готова широкая кровать из сена, накрытого украденной в
пансионате
шторой. Марина как раз думала, что возле кровати, как в фильме, должна
обязательно стоять корзина с цветами, и тут увидела в углу камеры
трофейный
фанерный ящик. Она огляделась и поняла, что видит и остальное –
кровать, нишу в
полу, где были сложены найденные на рынке продукты, и собственные
конечности;
все это было бесцветным, чуть расплывчатым, но вполне различимым.
«Наверное, –
подумала Марина, – я и раньше видела в темноте, просто не
обращала
внимания».
Взяв ящик, она поставила
его возле кровати, сунула туда клок сена и, как сумела, придала ему
форму
букета. Отойдя к дальней стене камеры, она с удовольствием осмотрела
получившийся интерьер, подошла к кровати и нырнула под штору.
Чего‑то не хватало.
Промучившись несколько минут, Марина поняла, в чем дело, –
подтянув к себе
лежащую на полу сумочку, она вынула из нее узкие черные очки и нацепила
их на
нос. Теперь оставалось только ждать звонка. Телефона у Марины в норе не
было,
но это ее мало смущало – она знала, что в той или иной форме
звонок последует,
потому что еще тогда, далеким солнечным утром на набережной, жизнь дала
ей в
этом честное слово.
Лежать под шторой было
тепло и удобно, но немного скучно. Марина сначала думала о всякой
всячине, а
потом незаметно для себя впала в оцепенение.
Разбудил ее донесшийся из‑за
стены шум. В том, что шум донесся именно из‑за стены, Марина была
уверена – она
уже давно привыкла к звукам, которые прилетали сверху (это были голоса,
шаги и
рев мотора выезжающей из гаража машины), и автоматически
отфильтровывала их,
так что они совсем не мешали ей спать. Но этот звук был другим –
за стеной,
определенно, рыли землю. Марина даже слышала звяканье совка о камни, с
которыми
она сама в свое время немало повозилась. Шум за стеной иногда исчезал,
но потом
возникал опять, вроде бы даже ближе, чем раньше, и Марина
успокаивалась. Иногда
из‑за стены долетала песня – Марина не могла разобрать слов; было
только ясно,
что поет мужчина, а мелодия вроде бы «Подмосковные вечера»,
но сказать точно
было нельзя. Постепенно у Марины выкристаллизовалась уверенность, что
ход за
стеной роют именно к ней, и она даже догадывалась, кто именно, но
целомудренно
боялась до конца в это поверить. Вскакивая с кровати, она подбегала к
стене и
надолго припадала к ней ухом, потом бросалась назад и замирала под
шторой.
Когда шум стихал, Марина приходила в смятение.
«А вдруг, – думала
она, – он промахнется и пророет ход не ко мне, а к этой
сраной уродине?»
Она вспоминала самку с
базара, и ее кулаки яростно сжимали сено.
«А сраная
уродина, –
думала Марина дальше, – возьмет и скажет, что она –
это я. А он ей
поверит… Он же такой глупенький…»
От такой подлости у нее
даже перехватывало дыхание, и она представляла себе, что сделает с
уродиной,
если где‑нибудь ее встретит.
Так продолжалась довольно
долго; наконец стена, за которой рыли ход, начала подрагивать, и с нее
на пол
посыпалась земля. Марина последний раз оглядела камеру – все
вроде было в
порядке – и юркнула под штору. В стену с той стороны начали бить
чем‑то
тяжелым, и не успела Марина последний раз поправить на носу очки, как
стена
рухнула.
В образовавшейся дыре
появился сапог. Он шевельнулся, несколько раз ковырнул землю, расширяя
проход,
и исчез, а потом в дыру просунулось мясистое лицо, которое Марина
узнала сразу
же. Это был он или почти он, только не брюнет, а рыжий, и вместо
дубленки на
нем была заснеженная шинель с майорскими погонами. Аккуратно, чтобы не
запачкаться землей, он протиснулся в дыру, и Марина заметила висящий на
его
груди тяжелый черный футляр с баяном.
– День
добрый, – сказал майор, снял баян, поставил его на
предохранитель и
опустил на пол. – Скучаешь?
Внутри у Марины все
сжалось, но она нашла в себе силы изящно приподнять очки и с холодным
интересом
взглянуть на майора.
– Мы
знакомы? –
спросила она.
– Сейчас
будем, – сказал майор, подходя к кровати и берясь крепкими
ладонями за
край свисающей с кучи сена шторы…
– Ты не
представляешь, Николай, какие вокруг живут звери, – говорила
Марина,
прижимаясь к лежавшей рядом на сене холодной мохнатой
тушке. – Вот,
например, ходила я недавно на рынок за продуктами. Так меня там чуть не
убили.
Еле потом до дома добралась. Николай, ты спишь?
Николай не отвечал, и
Марина, повернувшись на спину, уставилась в земляной потолок. Клонило в
сон.
Скоро ей стало казаться, что потолок над головой исчез, а на его месте
выступили звезды. Одна из звездочек мигнула и поползла по потолку, и
Марина,
вспомнив детские лица со стенда с выгоревшим на солнце будущим,
загадала
желание.
– Сам я
военный, – говорил Николай, – майор. Живу и
работаю в городе
Магадане. Но главное для меня в жизни – музыка. Так что, если ты
любишь музыку,
у нас с тобой обязательно установится духовная близость…
Марина открыла глаза.
Вокруг, как обычно, была тьма, но она знала, что уже настало то
единственное
утро, которое бывает в норе.
– Ты,
Марина, –
продолжал Николай, внимательно глядя на свои сапоги, стоящие возле
постели, – скоро будешь такая толстая, что уже не сможешь
никуда вылезти.
А вечером в Магадане сотни развлечений, так что я тебе предлагаю
сходить
сегодня в театр.
– Хорошо, –
сказала Марина, у которой сладко сжалось сердце, – но пусть
это будет что‑нибудь
оригинальное.
Вместо ответа Николай
протянул ей два листочка бумаги. «Магаданский ордена Октябрьской
Революции
военный оперный театр», – прочла Марина, перевернула
билет и увидела на
другой стороне синюю надпечатку: «Жизнь за царя».
– Так ведь это где
–
Магадан, – сказала она.
Николай кивнул в сторону
проделанной им в стене дыры, и Марине показалось, что оттуда повеяло
холодом.
До вечера Николай еще
несколько раз залезал на Марину, и она, прислушиваясь к ощущениям от
елозящего
на ней холодного влажного тела, с недоумением спрашивала себя –
неужели именно
в этом все дело и именно об этом во Франции сочиняют такие красивые
песни?
Иногда Николай замирал и принимался рассказывать о своей службе, о
делах и
товарищах; скоро Марина уже знала их всех по именам и званиям. Когда
Николай
слезал с нее, он сразу же начинал работать по дому – сначала
углубил нишу для
еды, потом принялся заделывать выход, ведущий к двум гаражам. Марина
ощутила
беспричинную тоску.
– Зачем это
ты? – с кровати спросила она.
– Дует
сильно, –
сказал Николай. – Сквозняк.
– А как мы тогда
вылазить будем?
Николай опять кивнул на
дыру в стене, из которой он появился несколько часов назад. До вечера
он успел
придать ей квадратную форму и даже сплел из соломы небольшой половичок,
который
положил перед дырой на пол.
Наконец Николай поглядел
на часы и сказал:
– Пора в театр.
Марина слезла с кровати и
тут вспомнила, что ей совершенно нечего надеть.
– А ты завернись в
штору, – сказал Николай, когда она объяснила ему свою
проблему, –
сейчас все так ходят.
Марина последовала его
совету, и получилось не так уж плохо. Николай натянул сапоги, надел
шинель,
повесил на плечо баян и нырнул в черную дыру в стене; Марина
последовала за
ним. За дырой был длинный кривой коридор, холодный и темный, который
заканчивался узким лазом вверх; из лаза на земляной пол падали слабый
синеватый
свет и редкие снежинки. Николай выбрался наружу и протянул Марине руку;
придерживая у горла штору, Марина последовала за ним.
Они оказались в
полутемном дворе, из которого вышли на широкую заснеженную набережную.
За
парапетом простиралась ровная белая плоскость замерзшего моря, похожая
на
огромный занесенный снегом каток. Набережную освещало несколько
фонарей; по ней
шли прохожие – большей частью вооруженные баянами офицеры,
некоторые вели под
руку своих завернутых в шторы жен; Марина, когда увидела их, испытала
большое
облегчение. Все офицерские жены были босые, как и она, и Марина
успокоилась
окончательно; взяв под руку Николая, она пошла по улице, любуясь
падающим снегом.
Театр оказался
величественным серым зданием с колоннами, очень похожим на главный
корпус
пансионата; Марина вспомнила южную ночь, звезды на небе и шум моря и
помотала
головой – таким это все казалось далеким и нереальным. Но театр
удивительно
напоминал здание, возле которого она когда‑то вырыла нору, и даже
лепные снопы
на фронтоне были те же самые, только сейчас большая их часть была
завешена
широкой кумачовой полосой с белой надписью:
МУРАВЕЙ МУРАВЬЮ – ЖУК,
СВЕРЧОК И СТРЕКОЗА.
В театре было многолюдно,
празднично и торжественно; доносились жутковатые звуки настраиваемых
инструментов. Офицерские жены оценивающе поглядывали на Маринину штору,
и
Марина с удовлетворением поняла, что ее штора не хуже, чем у
большинства.
Правда, попадались шторы и лучше – например, жена одного генерала
носила
малиновую бархатную портьеру с золотыми кистями, но зато сама эта жена
была
старая и морщинистая. Николай представил Марину нескольким друзьям
– таким же
рыжим майорам, и по их влажным зовущим взорам Марина поняла, что
произвела
впечатление.
Недалеко от Марины
остановился пожилой генерал со сточенными временем жвалами, поглядел на
нее с
благосклонной улыбкой, и Марина подумала, что с ним надо поговорить о
культуре.
– Скажите, –
спросила она, – вам нравятся французские фильмы?
– Нет, –
по‑военному
сухо ответил генерал. – Мне не нравятся французские фильмы.
Мне нравится
творчество кинорежиссера Сергея Соловьева, особенно то место, где его
бьют
кирпичом по голове и он падает с табурета на пол.
Тут Марина заметила, что
то, что она приняла за благосклонную улыбку, на самом деле было
результатом
паралича лицевых мышц, и смотрел на нее генерал вовсе не благосклонно,
а скорее
чуть напуганно.
– А ваш
муж, –
добавил генерал, отходя в сторону и косясь на Николая, –
хороший, перспективный
офицер.
– Служу Магаданскому
Муравейнику! – щипая Марину за ногу, чтобы она не вздумала
сказать что‑нибудь
еще, ответил вытянувшийся Николай.
Марина ждала, что он
станет ее ругать, но он ничего не сказал.
Прозвенел звоночек, и все
повалили в зал. Места у Николая с Мариной оказались не очень хорошие
– сцена
была видна под острым углом; то, что происходило в ее глубине, было
неразличимо, и, когда начался спектакль, Марина никак не могла взять в
толк, о
чем он. Николай наклонился к ней и шепотом стал объяснять, что большие
черные
муравьи напали на муравейник рыжих, а один старый муравей, пообещав
провести их
в камеру, где лежала главная матка и хранились яйца, на самом деле
завел их в
воронку муравьиного льва. На Николая сзади шикнули, и он замолчал, но
Марина
уже разобралась, в чем дело.
Большую часть действия
она только слышала, но зато, когда настал самый главный момент и на
сцене
остались старый муравей и муравьиный лев, Марина сумела отлично все
рассмотреть. Муравьиный лев был бритым наголо румяным мужчиной в
военной форме
двадцатых годов, с орденом на груди; он с видимой скукой сидел на
стуле, хлопая
серой папахой по его ножке и дожидаясь, когда старый муравей кончит
петь;
наконец тот затих и отполз в глубь сцены, тогда муравьиный лев встал и
медленно
пошел вслед за ним. Тревожно и страшно заиграл оркестр, по залу прошел
вздох
ужаса, но Марина уже ничего не видела. Она смотрела на тяжелую зеленую
кулису и
мечтала о том, что Николай станет генералом и выхлопочет такую же для
нее.
Когда спектакль кончился,
Николай предложил сходить в буфет выпить шампанского. Марина с радостью
согласилась – она помнила, что в фильме мордастый мужчина все
время пил со
своими женщинами шампанское из высоких узких бокалов. И тут случилась
беда.
На пустой лестнице,
затянутой широким красным ковром, Николай споткнулся, потерял
равновесие и
упал, ударившись затылком о ступени. Он сразу же потерял сознание и
быстро
задрыгал ногами, а на лице у него проступило отвращение. Марина
попыталась
поднять его за руку, но Николай был слишком тяжел, и Марина кинулась
вниз,
чтобы позвать на помощь. К счастью, на следующей же площадке она
наткнулась на
двух майоров, которых Николай перед спектаклем представил ей как своих
друзей.
Они молча курили, дожидаясь, когда подойдет их очередь в буфете.
Выслушав
Марину, они побросали окурки и поспешили за ней.
Николай лежал все в той
же позе и так же подергивал ногами, только теперь у него вдобавок стали
непроизвольно двигаться руки – они совершали плавные движения в
стороны, будто
растягивали и сжимали баян, но больше всего Марину напугало то, что
Николай
тихо‑тихо напевал «Подмосковные вечера».
Один из майоров сел на
корточки возле Николая, взял его кисть и нащупал пульс, а другой стал
отсчитывать время по часам. Через минуту они переглянулись, и тот,
который
щупал пульс (свободной рукой Николай продолжал играть на невидимом
баяне),
отрицательно помотал головой.
Оба майора поглядели на
Марину, и тут она впервые заметила, какие страшные жвала шевелятся у
них под
носами. Собственно, и у Николая, и у самой Марины были точно такие же,
но
раньше она не придавала этому значения. Глаза Марины заволокло слезами;
сквозь
их мутную пленку она увидела, что ей протягивают большой темный
предмет; она
подставила руки, и в них лег баян в футляре. Ее словно парализовало
– она
безучастно наблюдала, как первый майор приподнял Николаеву ногу, а
второй,
быстро работая жвалами, отгрыз ее по пах вместе с защитной штаниной, на
которой
в такт движениям его челюстей подергивался тонкий красный лампас. Когда
он
перегрызал вторую ногу, вокруг появились еще несколько майоров; они
поставили
свои бокалы с шампанским на пол, и работа пошла быстрее. Николай
перестал
играть на невидимом баяне только тогда, когда один из вновь появившихся
стал
отгрызать ему голову и, видимо, перекусил нерв. Другой майор принес
стопку
газет «Магаданский муравей» и начал заворачивать в них
отпиленные конечности
Николая. Дальше у Марины в памяти был длинный провал.
Она пришла в себя на
улице, от уколов холодных снежинок в лицо. Театр остался далеко за
спиной; в
одной руке она держала ящик с баяном, а в другой – два
продолговатых тяжелых
свертка, плотно упакованных в несколько слоев газетной бумаги. Кое‑как
она
дошла до того места, откуда несколько часов назад начинался поход в
театр,
огляделась и увидела в глубине занесенного снегом двора два ржавых
гаража,
стоявших под углом друг к другу. Между гаражами под тонким слоем
свежего снега
виднелись круглое углубление и недавние следы. Марина сунула руку в
снег, сняла
с лаза крышку – это был борт картонного ящика от папирос
«Север» – и спустилась
вниз.
Там было темно и тихо.
Марина положила свертки в снег, который намело внизу, и поползла спать.
Уже
вскарабкавшись на сено, она вспомнила, что произошло в театре, когда
Николая
почти кончили разделывать: не в силах глядеть на это, она отвернулась и
увидела, как по затянутым ковром ступеням под руку с большим рыжим
полковником
в сверкающих сапогах, не спуская с ее лица торжествующего взгляда,
спускается
сраная уродина с рынка, завернутая в лимонную портьеру с фиолетовыми
виноградными гроздьями.
Прогулочный катер успел
отойти в море довольно далеко, а шел все прямо, как будто направлялся в
Турцию.
Слева выступила часть побережья, раньше скрытая горой, и хоть сам берег
не был
виден в темноте, появились огни. Казалось, они горят на поверхности
моря,
словно мимо катера медленно движутся свечи в бумажных коробочках,
стоящие на
маленьких плотах. Луна тоже казалась висящим среди облаков бумажным
шаром с
горящей внутри свечой. Облака вокруг были высокие и редкие, с
ярко‑голубой от
лунного света кромкой, и небо из‑за этого казалось в несколько раз
выше, чем
обычно.
Митя стоял у борта,
облокотившись на поручень, и молча смотрел на берег.
– О чем ты столько
времени думаешь? – спросил Дима.
– Все о том
же, – сказал Митя. – О том, что со мной
происходит.
– Ты сейчас едешь по
морю на катере и смотришь на берег.
– Нет, –
сказал
Митя, – не прямо сейчас, а вообще в жизни. Никогда не
замечал такой
странности? Кому‑нибудь другому очень просто рассказать, как надо жить
и что
делать. Я бы любому все объяснил. И даже показал бы, к каким огням
лететь и
как. А если то же самое надо сделать самому, сидишь на месте или летишь
совсем
в другую сторону.
– Не
понимаю, –
сказал Дима, – какие сложности. Вон, видишь, сколько их
горит. Выбрал
любой и лети, пока сил хватит.
– В том‑то и
дело, – сказал Митя, – что лично во мне выбирают
сразу двое. И я даже
не могу отделить их друг от друга. Не знаю, кто настоящий, и не знаю,
когда
один сменит другого. Потому что оба вроде бы намерены двигаться к
свету, только
по разным маршрутам. А делать они предлагают совершенно противоположное.
– Кому предлагают?
– Мне.
– Ага, –
сказал
Дима, – значит, в тебе уже трое?
– Как трое?
– Первый, второй и
тот, кому они предлагают.
– Ты цепляешься к
словам. Я могу по‑другому сказать. Когда я пытаюсь принять решение, я
все время
натыкаюсь в себе на кого‑то, кто принял прямо противоположное, и именно
этот
кто‑то потом все и делает.
– А ты?
– А что я? Когда он
появляется, я им и становлюсь.
– Так, значит, это
ты и есть?
– Но я ведь хотел
делать прямо противоположное.
Митя надолго замолчал.
– Эти двое как бы
делят мое время, – заговорил он опять. – Один
– это настоящий я,
окончательный, тот, кого я считаю самим собой. Тот, кто хочет лететь к
свету. А
второй – это временный я, существующий только секунду. Он тоже, в
общем,
собирается лететь к свету, но перед этим ему необходим короткий и
последний
отрезок тьмы. Как бы проститься. Кинуть последний взгляд. И что
странно, у того
меня, который хочет лететь к свету, есть вся жизнь, потому что он и
есть я, а у
того, кто хочет лететь к тьме, – только одна секунда, и все
равно…
– И все равно ты
постоянно замечаешь, что летишь во тьму.
– Да.
– И тебя это
удивляет?
– Очень.
Дима кинул за борт
скомканную конфетную бумажку и следил за фантиком, пока его не накрыла
полоса
пены от винта.
– Вся жизнь ночного
мотылька, – сказал он, – и есть эта секунда,
которую он тратит, чтобы
попрощаться с темнотой. К сожалению, ничего, кроме этой секунды, в мире
просто
нет. Понимаешь? Вся огромная жизнь, в которой ты собираешься со
временем
повернуть к свету, на самом деле и есть тот единственный момент, когда
ты
выбираешь тьму.
– Почему?
– А что еще может
быть, кроме этой секунды?
– Вчера. Завтра.
Послезавтра.
– И вчера, и завтра,
и послезавтра, и даже позавчера тоже существуют только в этой
секунде, –
сказал Дима. – Только в тот момент, когда ты о них думаешь.
Так что если
ты хочешь выбрать свет завтра, а сегодня попрощаться с тьмой, то на
самом деле
ты просто выбираешь тьму.
– А если я хочу
перестать выбирать тьму? – спросил Митя.
– Выбери
свет, – сказал Дима.
– А как?
– Просто полети к
нему. Прямо сейчас. Никакого другого времени для этого не будет.
Митя поглядел на берег.
Что‑то мелькнуло в
воздухе, и раздался громкий удар о верхнюю палубу. Потом послышались
звяканье
ботинок о тонкую металлическую палубу и бодрые голоса.
– Что это
там? – задрав голову, спросил Митя.
– Комары, –
сказал Дима. – Сразу трое.
– Ночью? –
спросил Митя. – И от берега вроде далеко.
– Для них сейчас
день, –
ответил Дима. – Солнце вовсю светит.
– Что они там
делают?
– Откуда я
знаю, – сказал Дима.
Справа по борту катера
медленно поплыла огромная скалистая гора. Она была похожа на каменную
птицу,
расправившую крылья и наклонившую голову вперед, а на ее вершине мигало
два
красных огня.
– Видишь, –
сказал Дима, – сколько вокруг света и тьмы. Выбирай что
хочешь.
– Допустим, я хочу
выбрать свет. Но как я узнаю, настоящий он или нет? Ты же сам недавно
про луну
говорил, про лампочки Ильича, танцплощадку и так далее.
– Настоящий свет –
любой, до которого ты долетишь. А если ты не долетел хоть чуть‑чуть,
то, к
какому бы яркому огню ты до этого ни направлялся, это была ошибка. И
вообще
дело не в том, к чему ты летишь, а в том, кто летит. Хотя это одно и то
же.
– Да, –
сказал
Митя, – наверное. Ну, допустим, я выбираю вон те два красных
огня.
Дима поглядел на вершину
горы.
– Не так уж
близко, – сказал он. – Но это не имеет значения.
– И что теперь
делать? – спросил Митя.
– Лететь.
– Что, прямо сейчас?
– А когда же
еще? –
спросил Дима.
Митя перелез через
ограждение борта, схватился за привязанную к флагштоку короткую веревку
и
раскрыл крылья. Ветер рывком поднял его тело, и он стал похож на
поднятый на
корме темный флаг или взлетевшего над ней воздушного змея. Потом он
разжал
пальцы, катер поплыл вперед и вниз; стали видны три фигурки на
заваленной
надувными спасательными плотами верхней палубе.
Когда рядом появился Дима
– взлетел он незаметно и быстро, без всякого
нарциссизма, – фигурки на
верхней палубе пришли в движение. Одна из них, с зачехленной гитарой,
неожиданно приподнялась с четверенек, в два шага разбежалась и,
провалившись в
воздухе почти до поверхности моря, кое‑как полетела к берегу,
постепенно
набирая скорость. Оставшиеся двое начали спорить и некоторое время
яростно
жестикулировали, а потом, когда Мите уже трудно было различать их
контуры, тоже
взлетели. Еще через минуту катер стал просто светлым пятнышком внизу, и
Митя
перевел взгляд вперед.
Там был отвесный каменный
склон. Когда он оказался достаточно близко, лететь пришлось почти
вертикально
вверх. Через несколько минут этого воздушного восхождения внезапно
изменилась
перспектива – Мите стало казаться, что склон горы уходит не
вверх, а вдаль и он
летит на небольшой высоте над каменистой пустыней, где в лунном свете
различимы
каждый выступ и каждая трещина; красные огни на вершине стали похожи на
лампы
далекого железнодорожного семафора.
Ему в спину ударил ветер,
и Митя чуть не врезался в каменный карниз, далеко выступающий от
поверхности
горы. После этого он полетел медленнее. Иногда в трещинах скалы
появлялись
кусты, которые казались согнутыми сильным ветром; стоило напомнить
себе, что на
самом деле они, как и положено, тянутся вверх, и пустынная равнина
внизу
превращалась в то, чем она и была, – в каменную стену. Но
лишь только Митя
переставал напоминать себе об этом, как внизу опять появлялась
бесконечная
пустыня, по которой неслись, растягиваясь и искривляясь на трещинах,
две
длинные черные тени. Митя поднял глаза – впереди уже не было
никаких красных огней.
Луна ушла за край облака,
и каменистая равнина, над которой они летели, показалась ему крайне
мрачной.
Далеко за ее границей горели огни нескольких прибрежных поселений,
похожие на
звезды с какого‑то другого неба. Митя еще раз посмотрел в темную
пустоту
впереди и почувствовал внезапный страх и желание развернуться и
полететь вниз.
– Слушай, –
сказал он летящему рядом Диме, – а куда мы сейчас
направляемся? Огней ведь
уже нет.
– Как это
нет, – сказал Дима, – если мы к ним летим.
– Какой смысл к ним
лететь, если их не видно? Давай вернемся.
– Тогда нас тоже не
будет. Тех нас, которые к ним полетели.
– Может, эти огни
просто были не настоящие, – сказал Митя.
– Может
быть, –
сказал Дима, – а может, мы были не настоящие.
Опять вышла луна, и на
каменной поверхности склона появились короткие резкие тени выступов.
Митя
ощутил беспричинную тоску и беспокойство, помотал головой и понял, что
уже
долгое время слышит странный пронзительный лай. Этот лай был очень
громким, но
таким тонким, что ощущался не ушами, а животом. Иногда лай стихал, и
ему на
смену приходил не то вой, не то свист, от которого к горлу подступала
легкая
тошнота. Свист был очень неприятного тембра, и Митя подумал, что если
бы
красные кхмеры в Кампучии делали электронные будильники, то те,
наверное,
звенели бы именно так.
– Слышишь? –
спросил он Диму.
– Слышу, –
спокойно ответил тот.
– А что это?
– Летучая
мышь, – сказал Дима.
Митя даже не успел
испугаться: на залитом луной каменном склоне, перекрывая несущиеся
вверх тени,
мелькнула еще одна – огромная, размытая по краям и бесформенная.
Митя с Димой
метнулись к скале и с разгона плюхнулись на крохотную площадку, на
которой
росло несколько маленьких кустов; Митя при этом чуть не вывихнул ногу.
Свист
сразу же стих.
– Не
шевелись, – прошептал Дима.
– Она нас заметила?
– Конечно, –
сказал Дима. – Если ты ее услышал, то она тебя и подавно.
– Она слышит, как мы
говорим?
– Нет, –
сказал
Дима. – У нее очень интересные взаимоотношения с
реальностью. Она сначала
кричит, а потом вслушивается в отраженный звук и делает соответствующие
выводы.
Так что, если не шевелиться, она может оставить нас в покое.
Несколько минут они
стояли молча. Вокруг было тихо, только снизу долетал слабый шум
далекого моря.
– Помнишь вопрос,
который я тебе задал? – спросил Дима. – Насчет
того, какой свет
отражает Солнце?
– Помню.
– На самом деле и
Солнце, и свет тут ни при чем. О том же самом можно сказать по‑другому.
Взять
хотя бы то, что происходит с нами прямо сейчас. Как ты думаешь, что
видит
летучая мышь, когда до нее долетает отраженный от тебя звук?
– Меня, надо
полагать, – вглядываясь в небо, ответил Митя.
– Но ведь звук ее
собственный.
– Значит, не меня, а
свой звук, – ответил Митя.
Лай летучей мыши стих, и
она была не видна, но Митя чувствовал, что мышь рядом, и это беспокоило
его
куда сильнее, чем логические построения.
– Да, –
сказал
Дима, – но ведь звук отразился от тебя.
Митя еще раз оглядел
небо. Размеренный, неторопливый тон Димы начинал действовать ему на
нервы.
– И
выходит, –
говорил Дима, – что в некотором смысле ты просто один из
звуков,
издаваемых летучей мышью. Так сказать, куплет из ее песни.
Вдруг перед площадкой,
обдав их волной воздуха, бесшумно пронеслась тяжелая черная масса и
исчезла из
виду. Минуту или две не было слышно ничего, а потом издалека донесся
прежний
пронзительный лай. Он приближался – видимо, летучая мышь легла на
боевой курс.
– Ты – один из
звуков, издаваемых летучей мышью. А что такое летучая мышь?
– Это то, что нас
сейчас будет есть, – ответил Митя, чувствуя, как от
несущегося со стороны
моря свиста слабеют ноги и наезжают одна на другую мысли в голове.
Далеко в небе мелькнуло
темное пятнышко, и свист стал громче; Митя животом различил в нем
запредельную,
на две октавы выше всего слышанного в жизни, мелодию.
– Подумай, –
сказал Дима, – чтобы исчез ты, летучей мыши достаточно
перестать свистеть.
А что нужно сделать тебе, чтобы исчезла летучая мышь?
Он оттолкнулся от края
площадки и головой вперед бросился вниз. Митя прыгнул следом, и в то
место, где
он только что стоял, врезалась, с треском ломая кусты, тяжелая черная
масса.
Несколько метров он
неуправляемо падал вниз, а потом затормозил и быстро полетел вдоль
склона,
почти цепляя за него крыльями. Дима исчез.
Сзади опять долетел
тошнотворный свист. Митя оглянулся и увидел ныряющую вверх‑вниз темную
тень.
Пролетев еще с десяток метров, он заметил узкую расщелину в скале и
метнулся к
ней. Втиснувшись внутрь, он вжался в неровности камня и замер.
Несколько минут
было тихо, и он слышал только собственное громкое дыхание, а потом со
стороны
моря опять долетел свист, почти сразу же темная масса мягко врезалась в
скалу,
закрыла просвет, и в нескольких сантиметрах от лица Мити полоснула
воздух
черная когтистая лапа. Митя мельком увидел серую широкоскулую и
остроухую морду
с маленькими глазками и огромной зубастой пастью – отчего‑то она
напомнила ему
радиатор старой «Чайки». Мышь зашуршала крыльями по скале и
исчезла. От всего
этого события у Мити осталось такое ощущение, что в расщелину, где он
прятался,
попыталась въехать мягкая и мохнатая правительственная машина,
управляемая
полуслепым шофером.
Митя перенес вес тела на
левую ногу, а правую отвел назад. Опять раздался свист, и, когда черное
тело
мыши забилось у входа, Митя изо всех сил пнул его ногой. Он попал во
что‑то
податливое и услышал громкий визг. Мышь исчезла. Затаив дыхание, Митя
ждал, но
мышь не подавала никаких признаков жизни. Осторожно подобравшись к
выходу из
расщелины, он высунул голову и сразу услышал пронзительный свист. У
него перед
глазами мелькнуло перепончатое крыло, а над ухом лязгнули зубы. Митя
отпрыгнул
назад и чуть не потерял равновесие.
Через несколько минут Мите
стало казаться, что он различает издаваемые мышью звуки – тихий
шорох крыльев и
скрип царапающих камень когтей. Может быть, эти звуки производил ветер,
но Митя
был уверен, что мышь по‑прежнему ждет его у входа. «Вот
так, – подумал
он. – Как только понимаешь, что живешь в полной темноте, из
нее немедленно
появляются летучие мыши…»
Вдруг у Мити мелькнула
слабая надежда.
«А чего она может
бояться?» – подумал он.
Первым, что пришло ему в
голову, был летучий кот. Закрыв глаза, Митя попытался представить себе,
что это
такое. Летучий кот оказался сидящим на задних лапах существом с
большими
мохнатыми крыльями и хвостом с чем‑то вроде мухобойки на конце, как
рисуют у
древних крылатых ящеров; больше всего он почему‑то напоминал сфинкса со
швейной
машинки «Зингер». Старательно представив все подробности,
Митя тихо засвистел,
и в расщелину сразу свесилась перевернутая морда, глаза которой, как
показалось
Мите, были недоверчиво выпучены. Митя засвистел громче и представил
себе, как
летучий кот раскрывает пасть и прыгает вперед. Морда в расщелине
исчезла, и
Митя услышал быстро удаляющееся хлопанье крыльев.
Митя сунул в рот два
пальца и изо всех сил свистнул вслед удаляющемуся темному пятнышку, а
потом
шагнул из расщелины в пустоту, после короткого падения затормозил в
воздухе и
повернул вверх.
Димы нигде не было видно.
Митя полетел к тому месту, где они расстались, – оно было в
стороне и
значительно выше. На площадке Димы не оказалось, и Митя полетел к
вершине. Он
был уверен, что с Димой ничего не произошло, но все‑таки, несмотря на
эйфорию
от неожиданной победы, испытывал нехорошее предчувствие. И только через
несколько минут полета, когда до вершины было уже недалеко и мимо него
проплывала гладкая, словно вылитая из металла каменная стена без единой
неровности, он услышал свист и понял, в чем дело. Мышь вовсе не
оставила его в
покое. Она просто дожидалась, когда он вылетит из своего убежища и
окажется в
месте, где спрятаться будет негде.
Митя сунул в рот два
пальца и изо всех сил засвистел в ответ, пытаясь снова вызвать в своем
воображении образ черного пушистого сфинкса, но свист вышел жалкий и
вся затея
показалась крайне глупой. Мышь уже мелькала вдалеке, как черный
каучуковый
мячик, скачущий к нему по невидимой поверхности, и деться от нее было
совершенно некуда. «Что я могу сделать, чтобы она
исчезла? – лихорадочно
думал Митя. – Чтобы исчез я, ей достаточно перестать
свистеть… Я – это то,
что она слышит… Чтобы исчезла она… Может, тоже надо
перестать что‑то делать? А
что я делаю, чтобы она возникла?»
Это было совершенно
непонятно. То есть было примерно понятно, что имел в виду Дима в
метафорическом
смысле, но было совершенно неясно, какой толк во всех этих метафорах,
когда
рядом летает совершенно не интересующаяся ими летучая мышь.
Митя зажмурился и
неожиданно увидел ясный голубой свет – словно он не закрыл глаза,
а, наоборот,
закрыты они были раньше и вдруг, открывшись от страха, впервые заметили
что‑то
такое, что находилось перед ними всегда и было настолько ближе всего
остального, что делалось из‑за этого невидимым. И одновременно в его
голове
пронеслось мгновенное воспоминание о давно прошедшем дне, когда он
тащился по
серому ноябрьскому парку, над которым летели с севера низкие свинцовые
облака.
Он шел и думал, что еще несколько дней такой погоды – и небо
опустится настолько,
что будет, как грузовик с пьяным шофером, давить прохожих, а потом
поднял глаза
и увидел в облаках просвет, в котором мелькнули другие облака, высокие
и белые,
а еще выше – небо, такое же, как летом, до того синее и чистое,
что сразу стало
ясно – с ним, небом, никогда никаких превращений не происходит, и
какие бы
отвратительные тучи ни слетались на праздники в Москву, высоко над ними
всегда
сияет эта чистая неизменная синева.
И было большой
неожиданностью увидеть в самом себе нечто похожее, так же мало
затрагиваемое
происходящим вокруг, как одинаковое в любое время года небо –
ползущими над
землей тучами.
«Весь вопрос в
том, – подумал Митя, – откуда смотришь. Если,
например, крепко стоять
двумя ногами на земле… Стоп. А кто, собственно, смотрит? И на
кого?»
Первое, что он услышал,
когда пришел в себя, был знакомый свист.
«Господи, –
подумал
Митя, с усилием открывая глаза, – какие еще
мыши…»
Он висел в пятне ярко‑синего
света, словно на нем скрестились лучи нескольких прожекторов. Но
никаких
прожекторов на самом деле не было – источником света был он сам.
Митя поднял
перед лицом руки – они сияли ясным и чистым синим светом, и
вокруг них уже
крутились крошечные серебристые мушки, непонятно откуда взявшиеся на
такой
высоте над морем.
Митя полетел вверх, и за
все время, пока он поднимался к вершине, в голову ему не пришло ни
одной мысли.
Вершина оказалась
небольшой плоской площадкой, где росло несколько мелких кустов
боярышника и
торчал стальной шест маяка. Две красные лампы, до этого скрытые
каменным выступом,
опять стали видны. Они вспыхивали попеременно, и черные тени кустов
меняли
направление, будто на землю падала тень раскачивающегося в воздухе
маятника.
Под шестом с лампами стояли две непонятно откуда взявшиеся складные
табуретки.
На одной из них сидел Дима.
Митя помахал ему рукой,
сел на свободную табуретку и развернул на колене вынутый из кармана
лист
бумаги.
– Сейчас, –
сказал он внимательно глядящему на него Диме, – сейчас.
Минуту или полторы он
писал, потом быстро сложил из листа самолетик, встал, подошел к обрыву
и пустил
его – тот сначала нырнул вниз, а потом круто взмыл вверх и пошел
вправо, туда,
где остался поселок.
– Что это
ты? –
спросил Дима.
– Так, –
сказал
Митя. – Мистический долг перед Марком Аврелием.
– А, – сказал
Дима, – это бывает. Ну а все‑таки, свет чего отражает Солнце?
Митя сунул в рот
сигарету, щелкнул зажигалкой, и над ее обрезом возник ярко‑синий язычок
огня.
– Вот, –
сказал
Дима. – Как все просто, да?
– Да, –
сказал
Митя, – удивительно.
Он поднял глаза на мигающие
вверху лампы. Возле их стекол воздух трещал от крыльев сотен неведомых
насекомых, безуспешно пытающихся пробиться сквозь толстое ребристое
стекло к
самому истоку света.
– Куда же все‑таки
она делась? – спросил Митя.
– Ты про мышь? Куда
она могла деться. Вон летает.
Дима показал на крохотный
черный комок, ныряющий вверх‑вниз на границе освещенного участка. Митя
посмотрел туда и перевел взгляд на свои руки – они по‑прежнему
были окружены
ровным голубоватым сиянием.
– Я сейчас
понял, – сказал он, – что мы на самом деле
никакие не мотыльки. И не…
– Вряд ли тебе стоит
пытаться выразить это словами, – сказал Дима. – И
потом, ведь ничего
вокруг тебя не изменилось от того, что ты что‑то понял. Мир остался
прежним.
Мотыльки летят к свету, мухи – к говну, и все это в полной тьме.
Но ты – ты
теперь будешь другим. И никогда не забудешь, кто ты на самом деле,
верно?
– Конечно, –
ответил Митя. – Вот только одного я не могу понять. Я стал
светлячком
только что или на самом деле был им всегда?
– И под
конец, – с явным удовольствием рассказывал Артур, глядя на
Арнольда,
подставившего голову под хлещущую из крана воду, – ты
закричал на все
отделение: «Американские комары наших мух ебут, а мы смотреть
будем?»
Арнольд закрыл лицо
руками, вода потекла по его предплечьям, закручиваясь на локтях и двумя
потоками падая на кафель.
– Но самое
интересное, что в милиции к тебе отнеслись с явным
сочувствием, – сказал
Артур, – и даже деньги отдали, что бывает очень редко. Ты
хоть что‑нибудь
помнишь?
Арнольд отрицательно
потряс головой.
– Минуты три назад
еще помнил, – сказал он, закрывая кран и кое‑как расправляя
на голове
волосы. – А сблевал последний раз – и сразу все как
отрезало.
– Хоть про масонов‑то
помнишь? – спросил Арнольд. – Я прямо заслушался.
Арнольд задумался.
– Нет, –
сказал
он, – не помню.
– А про Магадан
духа?
– Тоже не помню.
– Вот это самое
интересное и было, – сказал Артур. – Это ты
ментам рассказывал, когда
протокол составляли. Что есть где‑то такой особый город, куда никто
просто так
не попадает. И там существует особое искусство и особая наука, и все
– как в
восьмидесятом году. Последний оплот. И время по‑другому течет: тут один
день
проходит, а там – несколько лет. Так сказать, советская Шамбала
наоборот. Но
вход в нее то ли под землей, то ли в воздухе, этого я не понял. И ты
еще дал
понять, что у тебя там связи.
– Не помню, –
сказал Арнольд. – И вообще хватит. Проехали.
– Ладно, –
сказал Артур. – Проехали так проехали. Ты мне только скажи,
чего тебя на
приключения потянуло? Ты же видел, что с Сэмом было.
– Даже не
знаю, – сказал Арнольд. – Взял чемодан, смотрю
– клиент как бревно
лежит. Интересно стало. Я подумал – неужели и на меня
подействует? Напился,
вылетаю – вроде ничего. Ну, думаю, слабый парень этот Сэм.
Полетел, значит, с
вами встречаться, а потом… Помню только, как Сэма за столом
увидел. А что это с
ним была за девушка?
– Не знаю, –
сказал Артур. – Я и сам не понял. Бац, а она уже за столом.
Они сейчас от
голода очень проворные. Готов?
Арнольд остановился у
зеркала, привел себя, насколько возможно, в порядок и положил на
тумбочку перед
старушкой мятый рубль. Выйдя из душевого павильона, приятели
направились в
сторону моря.
– Слушай, –
сказал
Артур, – до вечера все равно делать нечего. Давай Арчибальда
навестим?
– А он все там же?
– Вроде да, –
сказал Артур. – Я иногда прохожу мимо его избушки, только
зайти все
недосуг. Но дверь открыта.
Через несколько минут они
подошли к стоящему прямо на газоне бревенчатому домику, повернутому
приоткрытой
дверью к набережной. Домик был очень маленький и казался перенесенным
сюда с
детской площадки; над его дверью красовалась вывеска – красный
крест, полумесяц
и большая капля крови, а сверху была красная надпись «Донорскiй
пункт».
Артур толкнул дверь и
вошел внутрь; Арнольд последний раз пригладил волосы и шагнул следом.
Внутри было полутемно.
Напротив двери помещался невысокий прилавок, на котором стояли
несколько банок
медицинского вида и электрокипятильник для шприцев, а сзади, у стены,
располагалась пыльная конструкция из стеклянных сосудов, соединенных
оранжевыми
резиновыми трубками. Арнольд знал, что это нагромождение пробирок и
колб
совершенно бессмысленно и является просто декорацией, но все равно
ощутил
специфический дух больницы. За прилавком никого не было. На стене
висело
объявление, тоже пыльное, выведенное через трафарет шариковой ручкой:
БРАТЬЯ И СЕСТРЫ!
Ваша кровь нужна
другим. Научные исследования доказали, что регулярная сдача крови
положительно
сказывается на половой функции и увеличивает продолжительность жизни.
Выполните
свой нравственный, гражданский и религиозный долг!
После сдачи крови
бесплатно выдается шоколад «Финиш». Регулярные сдатчики
получают значок
«Заслуженный донор» и памятную грамоту.
В избушке никого не было.
За прилавком была полуоткрытая дверь. Арнольд обогнул прилавок и
выглянул
наружу. Там зеленел небольшой тихий оазис – это был участок
газона, со всех
сторон закрытый густыми зарослями кустов, так что попасть туда можно
было
только из домика. В центре зеленого пятачка стоял маленький круглый
мужчина в
белом халате и шапочке. У него в руках был пластмассовый вертолет,
насаженный
на штырь с леской, и в тот самый момент, когда Арнольд выглянул из
двери,
мужчина изо всех сил дернул леску.
Винт вертолета
превратился в прозрачный круг, игрушка взмыла в воздух. Мужчина задрал
голову,
издал тихий счастливый смех и несколько раз невысоко подпрыгнул на
месте от
восторга. Вертолет повис в воздухе, стал косо падать и исчез за
кустами.
Мужчина кинулся к двери и чуть не налетел на Арнольда. Остановясь, он
выпучил
глаза.
– Арнольд! –
сказал он и выронил штырь с леской на траву.
– Здорово,
дружище, – сказал Артур, появляясь из двери домика.
– Привет,
ребята, – сказал Арчибальд, растерянно бегая глазами по
гостям и пожимая
им руки. – Вот хорошо, что зашли. Я уж думал, вы уехали
куда. Как дела?
Чем занимаетесь?
– Дела
отлично, – ответил Артур. – Совместное
предприятие с американцами
делаем. А ты как?
– У меня все
по‑старому, –
сказал Арчибальд. – Сейчас, ребята. Вы садитесь пока.
Он нырнул в дверь и через
минуту появился с большой ретортой, полной темно‑красной жидкости, и
тремя
стаканами. Поставив стаканы на траву, Арчибальд до краев налил их и
поднял
свой.
– А чья
это? –
поинтересовался Артур.
– Коктейль, –
ответил Арчибальд. – Туркменская второй группы и
подмосковно‑инженерная с
отрицательным резусом. За встречу!
Он сделал большой глоток.
Артур с Арнольдом тоже отхлебнули.
– Ну и
дрянь, –
поморщившись, сказал Артур. – Ты извини, конечно. Но как ты
можешь это
пить, с консервантом?
– А что
делать? – развел руками Арчибальд. – Иначе за
день сворачивается.
– Что ж ты, так и
живешь? Да ты когда свежую кровь пил последний раз?
– Вчера, –
сказал Арчибальд, – пятьдесят грамм. Я, когда клиентов
много, тоже себе
позволяю.
– Из
стакана, –
фыркнул Артур. – Какой ты комар после этого? Что бы твой
отец сказал, если
бы увидел?
– Да какой я
комар, – извиняющимся тоном проговорил
Арчибальд, – так, слово одно.
Мать была божья коровка, вот только крест от нее остался, –
он вытянул из‑за
ворота халата золотую цепочку, – а отец таракан. Я вообще
непонятно кто.
– И нравится тебе
быть непонятно кем?
Арчибальд одним глотком
допил кровь и задумчиво повертел стаканом в воздухе.
– Непонятно
кем? – переспросил он. – Не знаю. Нравится,
наверно. Тихо, покойно.
Конечно, когда молодой был, не думал, что этим кончится. Все казалось,
стою на
пороге чего‑то удивительного, нового, вот только еще немного…
– Он запнулся,
подыскивая слово, и пошевелил пальцами в воздухе, словно пытаясь
показать, чему
именно он хотел когда‑то посвятить еще немного времени. –
…еще чуть‑чуть –
и переступлю. А порог оказался…
Он кивнул головой в
сторону двери, ведущей в избушку.
– Ты когда последний
раз летал? – спросил Артур.
– Не помню даже. Вы
меня, ребята, на грустные мысли наводите. Зачем вам, а?
– А ты ведь не
сдался еще в душе, – сказал Артур, – я как этот
вертолетик увидел,
так все и понял.
– Может, и не
сдался, – сказал Арчибальд и плеснул из колбы себе в
стакан. – Вам
наливать?
Артур вопросительно
поглядел на Арнольда. Тот отрицательно покачал головой.
– Слушай, –
сказал Артур, – я тебе вот что предлагаю. Ты запри свою
кибитку часа на
два, и давай на пляж слетаем. Попьем нормальной крови, проветримся. А?
– Отпадает, –
сказал Арчибальд. – Я и ста метров сейчас не пролечу.
– Кончай, –
сказал Артур. – Пролетишь. Если не будешь самовнушением
заниматься. Ты
себя просто настроил так.
– Бросьте, ребята.
– Правда, –
заговорил Арнольд, – давай. У тебя аппетит к жизни пропал. А
чтобы он
появился, надо немного от нее откусить и пожевать. Ведь если сейчас не
полетишь, то что тебя потом заставит?
– Так и сдохнешь тут
среди шприцев и шлангов, – сказал Артур. –
Извини, конечно.
– А может, я уже
сдох, – сказал Арчибальд, исподлобья глядя на приятелей.
– Вот и
проверим, – не сдавался Артур. – Если летишь,
значит, жив. Остаешься
– значит, сдох.
– Полетели,
полетели, – заговорил Арнольд. – Мы тебя, если
надо, подстрахуем.
Выпитая кровь уже начала
действовать на Арчибальда. Он зло засмеялся, встал, качнулся и
опрокинул колбу
с кровью, но не обратил на это внимания.
– Сейчас, дверь
запру только, – сказал он с легким восточным акцентом и
скрылся в домике.
Через секунду Арчибальд
выглянул, показал Артуру с Арнольдом длинный острый нож, нехорошо
улыбнулся и
опять исчез за дверью.
Арнольд наклонился к
Артуру и прошептал:
– Зря мы это начали.
Может, уйдем? Он же действительно за нами увяжется.
– Поздно, –
шепотом ответил Артур.
И действительно, было уже
поздно: Арчибальд появился из своего домика. Он успел переодеться
– теперь на
нем были тяжелые туристские ботинки, военная рубашка и джинсы,
перетянутые
офицерской портупеей; в руке – зачехленная гитара, из‑за которой
он походил на
рано постаревшего итээра, собравшегося на слет клуба самодеятельной
песни.
– Джамбул на
коне, – сказал он, – как птица в небе.
Артур с Арнольдом
переглянулись.
– Понимаешь, –
заговорил Арнольд, – мы не в том смысле, что прямо сейчас
надо все бросать
и лететь. Просто надо хотя бы иногда…
– Так летим или не
летим? – презрительно спросил Арчибальд.
– Летим,
летим, – сказал Артур, не обращая внимания на яростные
взгляды Арнольда.
Присев на четвереньки, он
поглядел на Арчибальда, раздул щеки, тихо затрещал, приложил руку к
груди и
резко отвел ее в сторону, словно дергая леску. Полы пиджака задрожали и
превратились в стрекочущий прозрачный полукруг над спиной; он медленно
поднялся
на несколько метров, явно пародируя полет пластмассового вертолетика.
Арчибальд покраснел, на
удивление легко взмыл вверх и завис напротив обидчика. Артур продолжал
валять
дурака – трещал, дергал невидимую леску и покачивался из стороны
в сторону.
Подлетев к мрачно наблюдающему за этим Арчибальду, Арнольд взглянул на
него и
жалостливо отвел взгляд. Хоботок Арчибальда, загнутый вниз и какой‑то
мятый,
вызвал у него длинный ряд ассоциаций, закончившийся вопросом:
«Страна, скажи,
как твое имя?» (Это был, как Арнольд вспомнил, заголовок газетной
статьи, слева
от которой размещалась реклама пластмассового приспособления от
импотенции
«Эректор.»)
– Куда? –
спросил Арчибальд.
– Пролетим над
пляжем, – сказал Артур, – сориентируемся.
Внизу поплыла набережная.
Потом мелькнули дощатые крыши раздевалок и открылся берег, на котором
неподвижно лежали сотни полуголых тел. Запах моря смешивался с
множеством
других пляжных запахов; теснота, с которой лежали отдыхающие,
напоминала о
заводской бане, и желания приземлиться ни у Артура, ни у Арнольда не
возникло.
– Может быть, в
заповедник? – предложил Артур, кивая хоботком в сторону
далеких скал. –
Там народу почти не бывает.
– Егерь
пристанет, – сказал Арнольд.
– Он там не бывает
никогда.
– А клиента найдем?
– Один‑два всегда
есть, – сказал Артур, наклонил голову и полетел впереди,
стараясь
двигаться не очень быстро, но и не настолько медленно, чтобы Арчибальд
понял,
что его щадят.
Берег моря образовывал
длинную вогнутую дугу, и друзья полетели по прямой, над морем. Сначала
Арчибальд наслаждался полетом и искренне досадовал на то, что уже
столько лет
добровольно лишает себя наслаждения, доступного в любой момент, но
когда
усталость разогнала ударившую в голову кровь, он посмотрел вниз и
обомлел.
Под его притиснутыми к
брюшку лапками («Господи, какие худые!» – подумал
Арчибальд) и зажатой в них
гитарой, похожей на ракету «Хаунд дог» под брюхом
бомбардировщика «Б‑52»,
расстилалось море – оно было очень далеко, и волны на нем
казались
неподвижными. Берег оказался на таком расстоянии, что Арчибальд понял
– свались
он сейчас вниз, вплавь он до него не доберется. Ему стало страшно, и он
поднял
взгляд на небо.
Артур с Арнольдом были в
превосходном настроении и коротко обменивались впечатлениями о погоде;
про
Арчибальда словно забыли. Они отлетали все дальше от берега, и
Арчибальд стал
ощущать короткие приступы паники. От страха он тратил массу лишних
усилий,
махая крыльями намного быстрей, чем требовалось; сначала он подумал,
что все‑таки
сумеет долететь до заповедника, и уже почти успокоился, решив никогда
больше не
ввязываться в такие приключения, как вдруг что‑то сильно толкнуло его в
лицо и
грудь.
Арчибальд зажмурился от
рези в глазах, поднес к ним одну лапку и протер их – вся лапка,
когда он
поглядел на нее, оказалась покрытой грубым папиросным табаком. Табак
запорошил
ему глаза и рот, забился в волосы и в большом количестве попал за
шиворот, но
задуматься, откуда он мог взяться на такой высоте и в таких
количествах,
Арчибальд не успел, потому что гитара неожиданно стала очень тяжелой, а
в спине
возникла настолько острая боль, что стало ясно – еще полсотни
метров, и крылья
откажут.
– Ребята, –
позвал он улетевших чуть вперед Артура с Арнольдом и, поняв, что его не
слышат,
зажужжал во весь хоботок: – Ребята!!
Те обернулись и сразу все
поняли.
– До берега
дотянешь? – торопливо подлетая, спросил Артур.
– Нет, –
задыхаясь, ответил Арчибальд, – я сейчас упаду.
Перед его глазами все
слилось в мутное бессмысленное пятно; последним, что он различил, была
крошечная белая лодочка прогулочного катера на темно‑синем фоне.
– Так, Арнольд,
давай его… Садимся на авианосец. До палубы дотянешь?
Эти слова донеслись до
Арчибальда из другого измерения – в его мире не оставалось уже ни
высоты, ни
палубы, ни необходимости куда‑нибудь дотянуть. Но голоса становились
все громче
и нахальнее, и кто‑то даже начал сильно трясти за плечо, после чего
пришлось
открыть глаза. Над ним склонялись Артур и Арнольд.
– Арчибальд, –
позвал Артур, – ты меня слышишь?
Арчибальд молча
приподнялся на локтях. Он лежал на верхней палубе среди оранжевых
спасательных
плотов – по цвету они так напоминали пыльные резиновые трубки,
висящие на стене
у него дома, что ему сразу стало спокойно. Под головой у него была
гитара, а
рядом сидели на корточках Артур с Арнольдом. Катер слегка покачивало; с
нижней
палубы сквозь шум мотора пробивались крики пассажиров.
– Ну ты
даешь, – сказал Арнольд. – Мы тебя в последний
момент поймали. У тебя
что, высотобоязнь?
– Типа
того, –
ответил Арчибальд.
– Над морем ниже
лететь опасно, – сказал Артур. – Чайки.
Он кивнул в сторону
кормы, над которой неподвижно висели несколько белых птиц – они
летели с той же
скоростью, что и катер, но совсем не махали крыльями и казались
эмблемами с
кулис невидимого МХАТа. Время от времени с палубы бросали в море
конфету или печенье,
и тогда одна из птиц чуть поворачивала крылья и уносилась назад,
превращаясь в
покачивающееся на воде белое пятнышко, а ее место над кормой занимала
другая.
С кормы в небо взмыли две
темные ширококрылые тени и унеслись вверх – это произошло так
быстро, что ни
Артур, ни Арнольд ничего не заметили.
– Красиво, –
сказал Арчибальд и попытался встать.
– Пригнись, –
скомандовал Артур, – из рубки увидят.
После нескольких эволюций
Арчибальд встал на четвереньки, лицом к белой полосе пенного следа за
кормой.
– Господи, –
сказал он, – как я живу! Я ведь неправильно живу!
– Успокойся, –
велел Артур. – Мы тоже. Только истерики не надо.
– Море, –
медленно и членораздельно сказал Арчибальд, – катер идет.
Чайки. И все это
рядом. А я… На палубу вышел, а палубы нет…
Вдали, у горы, мимо
которой шел катер, из моря поднималось несколько плоских камней; на
вершине
одного из них мелькнули два обнаженных тела и сразу исчезли за
наехавшей
скалой. Арчибальд издал невнятный стон – словно из глубин его
сердца вырвалась
на свободу вся долго копившаяся ненависть к себе, к своему жирному
дряблому
телу и бессмысленной жизни, – и, прежде чем приятели успели
среагировать,
он схватил гитару и бросился в воздух.
Его сознание сузилось в
подобие ракетной системы наведения – в нем остался только плоский
камень с
двумя лежащими на нем телами, который становился все ближе и наконец
заполнил
собой все пространство; тогда новой целью стала стремительно несущаяся
на него
голая женская нога – Арчибальд ощутил, как его хоботок выпрямился
и налился давно
забытой силой. Арчибальд громко зажужжал от счастья и с размаху всадил
его в
податливую кожу, подумав, что Артур с Арнольдом…
Но с неба вдруг упало что‑то
страшно тяжелое, окончательное и однозначное, и думать стало некому,
нечего,
нечем и незачем.
– Я не
хотела, – повторяла заплаканная Наташа, прижимая к голой
груди скомканное
платье, – не хотела! Я ничего даже не заметила!
– Никто никого и не
обвиняет, – сухо сказал мокрый Артур. – Это
просто несчастный случай,
очень несчастный.
Сэм молча обнял Наташу за
плечи и развернул ее, чтобы она больше не могла смотреть на то, что
совсем
недавно ходило по земле, радовалось жизни, сосало кровь и называло себя
Арчибальдом. Сейчас это был мятый ком кровавого мяса, кое‑где прикрытый
тканью,
из центра которого торчал треснутый гриф гитары, – ни рук,
ни ног, ни
головы уже нельзя было различить.
– Ехали на
катере, – сказал мокрый Арнольд, – и он вдруг ни
с того ни с сего как
взлетит. И с такой скоростью – мы его даже догнать не смогли.
Кричали вам,
кричали. А когда подлетели… Вы ведь и не заметили ничего. Его
назад в море
отнесло. Полчаса искали.
– Если кто‑нибудь
виноват, – сказал Артур, – так это мы. Он сначала
никуда не хотел
лететь, словно чувствовал. Но потом согласился. Наверно, просто решил
умереть
как комар.
– Может
быть, –
сказал Арнольд. – А что это он сказал про палубу?
– Это из
песни, – ответил Артур. – На палубу вышел, а
палубы нет. В глазах у
него помутилось. Увидел на миг ослепительный свет. Упал, сердце больше
не
билось…
– Да, –
сказал
Арнольд. – Когда‑нибудь и нас это ждет.
Ему в щеку ударило что‑то
легкое и острое, и он рефлекторно поймал маленький самолетик, сложенный
из
исписанного листа бумаги. Арнольд поднял глаза – над ним
возвышалась почти
отвесная каменная стена, уходившая вверх не меньше чем на сто метров.
Он
развернул самолетик (линии, по которым он был сложен, расходились из
верхней
части листа, как лучи, но точка, откуда они начинались, была за краем
листа) и
прочел следующее:
ПАМЯТИ МАРКА АВРЕЛИЯ
1. Трезвое и совершенно
спокойное настроение никогда не приводит к появлению подтянутых строк.
А стихи
надо писать со всем стремлением, как народный артист выпиливает
треугольный
брелок.
2. А тут идет дождь, и
совершенно нет сил, чтобы сосредоточиться. Лежишь себе, лежишь на
спине, и не
глядя ясно, что в соседнем доме окна желты, и недвижный кто‑то людей
считает в
тишине.
3. Но тоска очищает. А
испытывать счастье осенью – гаже, чем напудренной интеллигентной
старухе давать
минет. Отдыхай, душа. Внутренний плевок попадет в тебя же, а внешний
вызовет
бодрый коллективный ответ.
4. Так и живешь. Читаешь
всякие книги, думаешь о трехметровой яме, хоть и без нее понятно, что
любая
неудача или успех – это как если б во сне ты и трое пожарных
мерились хуями, и
оказалось бы, что у тебя короче или несколько длинней, чем у всех.
5. Размышляешь об этом,
выполняя назначенную судьбой работу, и все больше напоминаешь себе
человека,
построившего весь расчет на том, что в некой комнате, и правда, нет
никакого
комода, когда на самом деле нет никакой комнаты, а только Коммод.
6. Бывает еще, проснешься
ночью где‑нибудь в полвторого и долго‑долго глядишь в окно на свет так
называемой Луны, хоть давно уже знаешь, что этот мир –
галлюцинация наркомана
Петрова, являющегося, в свою очередь, галлюцинацией какого‑то пьяного
старшины.
7. Хорошо еще, что с
сумасшедшими возникают трения и они гоняются за тобой с гвоздями и
бритвами в
руках. Убегаешь то от одного, то от другого, то от третьего и не
успеваешь
почувствовать ни свое одиночество, ни страх.
8. Хорошо бы куда‑нибудь
спрятаться и дождаться лета, и вести себя как можно тише, а то ведь не
оберешься
бед, если в КГБ поймут, что ты круг ослепительно яркого света, кроме
которого
во Вселенной ничего никогда не было и нет.
Последнее четверостишие
было приписано косым размашистым почерком, явно в спешке.
«КГБ» было
зачеркнуто, сверху было написано «АФБ» и тоже зачеркнуто, а
рядом стояло тоже
зачеркнутое «ФСБ».
Максим прикрыл за собой
калитку, поглядел вперед и окаменел. Из‑за кустов шиповника к нему
медленно шел
хозяйский волкодав – задумчивый и тихий, с печальными красными
глазами; изо рта
у него свисало несколько блестящих, как бриллиантовые подвески, нитей
слюны, из‑за
чего он слегка напоминал заколдованную принцессу. Волкодав с сомнением
поглядел
на Максимову красную пилотку с желтой кисточкой и жирной шариковой
надписью
«Viva Duce Mussolini» и уже открыл пасть, чтобы гавкнуть,
но увидел высокие
офицерские сапоги, которые Максим тщательно начистил утром, и несколько
растерялся.
– Банзай! –
крикнула простоволосая женщина в халате, появляясь из‑за кустов вслед
за
собакой. – Банзай!
– Банзай! –
радостно крикнул Максим в ответ, но то, что он принял за неожиданный и
тем
более прекрасный духовный резонанс, оказалось недоразумением –
женщина не
приветствовала его, как он решил в первый момент, а звала собаку.
Максим звучно кашлянул в
кулак и подумал, что он всегда ошибается в людях, думая о них слишком
хорошо.
– Я
извиняюсь, – сказал он поставленным баритоном, –
а Никита дома?
Хозяйка, не отвечая,
потащила оглядывающуюся собаку назад. Максим деликатно постучал в окно,
затянутое изнутри рулонной фольгой. В фольге приоткрылся маленький
квадратик
черноты, и в нем появился внимательный глаз с сильно расширенным
зрачком. Потом
квадратик закрылся и из‑за расположенной у окна двери донесся скрежет
отодвигаемой тумбочки. В щели появилось увитое редкой волнистой
бородкой
бледное лицо Никиты. Сначала Никита поглядел за Максима и, только
убедившись,
что никого и ничего больше за дверью нет, снял цепочку.
– Заходи, –
сказал он.
Максим вошел. Пока Никита
запирал дверь и придвигал к ней тумбочку, Максим огляделся. Никаких
изменений в
обстановке не произошло, только появился где‑то подобранный Никитой
стенд
«Средства воздушной агрессии империализма», покрытый
большими черно‑белыми
фотографиями самолетов, – он был прислонен к груде
слежавшегося хлама, в
котором Максиму удалось идентифицировать только несколько старых
подрамников.
Лежащий у стены матрас, на котором Никита спал, был накрыт несколькими
одеялами, а поверх них была расстелена газета с целой горой плана,
который
Максим по темно‑зеленому с рыжеватинкой цвету классифицировал как
сильно
пересушенную северо‑западную чуйку урожая конца прошлой весны; куча
выглядела
солидной, примерно на два стакана и семь кораблей, и Максим ощутил
простую и
спокойную радость бытия, перешедшую затем в чувство уверенности не
только в
завтрашнем дне, но и как минимум в двух следующих неделях. Рядом с
газетой
лежали большая лупа, лист бумаги, на котором зеленели какие‑то точки, и
любимая
Никитина книга «Звездные корабли», раскрытая посредине.
– У тебя папиросы
есть? – спросил Никита.
Максим кивнул и вынул из
кармана пачку «Казбека».
– Задуй тогда
сам, – сказал Никита, взял лупу и склонился над листом.
Максим присел на корточки
возле газеты и распечатал папиросы. Черный всадник на пачке тревожил
его душу,
и Максим, вынув несколько штук, спрятал пачку назад в карман. Взяв
папиросу, он
повернул ее набитой частью в сторону стенда и сильно дунул в мундштук.
Табачная
пробка вылетела из бумажного цилиндра и с силой ударила в один из
черных
самолетов – прочитав подпись, Максим понял, что попал в
бомбардировщик «Б‑52
Стратофортресс» с подвешенной ракетой «Хаунд Дог».
– Цель
уничтожена, – прошептал он, зажал папиросу в губах,
наклонился над кучей
плана и стал засасывать его в гильзу.
Никита, признанный мастер
пневмозабивки, смотрел на деятельность Максима мрачно и даже немного
брезгливо,
но никак ее не комментировал. Он был сторонником несколько другой
техники, при
которой в конце папиросы сохранялось немного табаку, – дело
было не столько
в том, что при такой методике план не попадал в рот, сколько в
преемственности
по отношению к поколению шестидесятников, которых Никита очень уважал,
а
Максим, как и все постмодернисты, не ставил ни во что, –
поэтому, забивая
косяк, он просто перекручивал папиросную бумагу у начала картонного
мундштука,
в результате чего получалась так называемая бестабачная пятка.
Задув три косяка, Максим
протянул один Никите, вторым вооружился сам и чиркнул спичкой.
– Хороший, –
сказал он, затянувшись два раза, – но все‑таки не план
Маршалла. Ближе к
тайному плану мирового сионизма, а?
– Я бы не
сказал, – отозвался Никита. – Скорее, ленинский
план вооруженного
восстания.
– А, –
встрепенулся Максим, – вроде того, который он в Разливе
выращивал и
морячкам давал?
– Ну. Еще был план
ГОЭЛРО.
– ГОЭЛРО? –
переспросил Максим. – Который на прошлой неделе курили? Не
очень мне
понравился. От него потом желтые круги перед глазами.
– Еще там был
ленинский кооперативный план, – бормотал
Никита, – план
индустриализации и план построения социализма в отдельно взятой стране.
– А где
«там» – там,
где ты брал, или у Ленина?
– Да, –
сказал
Никита.
– А шалаш, –
догадался Максим, – так назывался, потому что весь из шалы
был сделан!
– Но плана Маршалла
там не было, – заключил Никита.
Планом Маршалла назывался
один удивительный сорт с Дальнего Востока, который в прошлом году
проходил на
дальней периферии Никитиного мира, там, где уже начинались сложные
уголовные
расклады и за траву намного охотнее брали патроны для
«макарова», чем деньги.
Плана Маршалла перепало совсем немного, но он так запомнился, что
каждую новую
партию неизбежно сравнивали с ним.
Добив косяк, Никита взял
лупу и склонился над листом бумаги, усеянным зелеными точками.
– Что это ты
разглядываешь? – поинтересовался Максим.
– А это конопляные
клопы, – сказал Никита.
– Какие конопляные
клопы?
– Никогда не
видел? – меланхолично спросил Никита. – Ну так
посмотри.
Максим переместился
поближе к листу бумаги. На нем лежали обломки сухой конопли примерно
одного
размера, миллиметра два‑три длиной, состоявшие из черенка листа и
коротенького
отрезка ножки, – поэтому все они были одинаковой треугольной
формы. Максим
прикинул, сколько времени у Никиты должно было уйти, чтобы просеять
целую гору
травы, собирая эти кусочки, и с уважением посмотрел на приятеля.
– Так это ж
шалашка, – сказал он, – какие это клопы?
– Я тоже так
думал, – сказал Никита. – А ты в лупу посмотри.
Максим взял лупу и
склонился над листом. Сначала он не заметил ничего необыкновенного в
увеличившихся в несколько раз обломках листьев, но потом увидел на них
странные
симметричные полоски и внезапно узнал в этих полосках прижатые к брюшку
лапки.
И сразу же, как это бывает с ребусами, где нужно выделить осмысленный
рисунок в
хаотическом переплетении линий, произошла удивительная трансформация
– весь
лист, который только что был покрыт конопляным сором, оказался усеянным
небольшими плоскими насекомыми буро‑зеленого цвета с длинной
продолговатой
головкой (ее Максим принимал за обломок ножки листа), треугольным
жестким
тельцем (у клопов остались, видимо, рудиментарные крылья – можно
было даже
различить разделяющую их тоненькую линию) и лапками, которые были
поджаты к
телу и сливались с ним.
– Они
дохлые, –
спросил Максим, – или спят?
– Нет, –
ответил Никита. – Это они притворяются. А если на них долго
не смотреть,
то они ползать начинают.
– Никогда бы не
подумал, – пробормотал Максим. – Во, один
шевелится. И давно ты их
заметил?
– Вчера, –
сказал Никита.
– Сам?
– Не, –
сказал
Никита. – Показали. Я тоже не знал.
– А много их в
траве?
– Очень, –
сказал Никита. – Считай, в каждом корабле штук двадцать. Это
как минимум.
– А почему ж мы их
раньше не замечали? – спросил Максим.
– Так они же очень
хитрые. И планом прикидываются. Но зато такая примета есть – за
день до того,
как менты придут, клопы бегут с корабля – ну, короче, как крысы.
Поэтому умные
люди как делают – берут коробок травы, кладут его на шкаф, а
сверху накрывают
трехлитровой банкой. И если клопы выползают и забираются на стены
банки, умные
люди сразу собирают всю траву и везут на другой флэт.
– Так что, –
сказал Максим, – выходит, они в каждом косяке есть?
– Практически да.
Замечал – бывает, когда куришь, что‑то трещит? И запах меняется?
– Так это же
семена, – сказал Максим.
– Вот, –
сказал
Никита, – я тоже так думал раньше. А вчера специально косяк
забил одними
семенами – ничего подобного.
– Так что, это…
– Да, –
сказал
Никита. – Они.
Косяк в руке Максима
щелкнул и выпустил тонкую и длинную струю дыма, словно в нем произошло
извержение микроскопического вулкана. Максим испуганно поглядел на
папиросу и
перевел взгляд на Никиту.
– Во, –
сказал
Никита. – Понял?
– Так это ж на
каждом косяке бывает раза по три, – побледнев, сказал Максим.
– О чем я и говорю.
Максим замолчал и
задумался. Никита сел на пол и стал надевать кеды.
– Ты чего
это? – спросил Максим.
– Стремак, –
объяснил Никита. – Надо погулять пойти. У тебя часы есть?
– Нету.
– Тогда включи
радио. Там объявят. В три часа надо на рынке быть.
Максим протянул руку к
старому «ВЭФу» и щелкнул ручкой. Передавали новости.
– Выступая на сессии
Организации Объединенных Наций, – заговорил ксилофонический
женский
голос, – король Иордании Хусейн отметил, что американский
план
ближневосточного урегулирования представляется ему малоэффективным. Он
заявил,
что у арабских народов имеется свой план, о котором необходимо шире
информировать международную общественность. А теперь несколько слов о
событиях
внутри страны. Из Кузбасса сообщают – на Новокраматорском
металлургическом
комбинате задута седьмая домна с начала пятилетки. Поясним
радиослушателям, что
в ранее принятой терминологии одна домна составляет десять стаканов,
или сто
кораблей, или тысячу косяков. Таким образом, семь ты…
Никита нагнулся над
приемником и выключил его.
– Не
дождемся, – сказал он. – Лучше на улице спросим.
– Тысяча
косяков, –
мечтательно повторил Максим и выпучил глаза. – Эй, ты
слышал, что сейчас
передали?
– Да, –
отозвался Никита. – А что?
– И тебя ничего не
удивило?
– Нет.
– Ну ты
даешь, – засмеялся Максим. – Совсем скурился
чувак. Ты правда, что
ли, ничего не заметил?
– А что я должен был
заметить?
– Про пятилетку.
Ведь пятилеток нет больше.
– Пятилеток
нет, – сказал Никита. – Но пятилетний план
остался. Его же на пять
лет вперед сушили.
– А‑а! –
понял
Максим.
– Пойдем
быстрее, – сказал Никита, выглянув в окно, – пока
во дворе пусто. Еще
косяк возьмем?
– Не
вопрос, –
сказал Максим и сунул папиросу в карман.
Никита задержался у
двери.
– Стой, –
сказал он, с сомнением глядя на Максима, – так не пойдет.
– Чего не пойдет?
– Вид у тебя
стремный, вот чего. Переверни пилотку.
Максим послушно снял
пилотку и нацепил ее желтой кисточкой вперед. Никита остался доволен и
открыл
дверь.
На улице дул ветер и было
прохладно. Недавно прошел дождь, но асфальт уже успел высохнуть. Максим
с
Никитой вышли на дорогу и двинулись в гору, по направлению к блестящим
воротам,
образованным трубой теплоцентрали, которая выгибалась над дорогой в
форме буквы
«П».
– Слушай, –
сказал Никита, – туда не пойдем.
– А чего?
– Вон,
видишь, – сказал Никита, указывая на арку. – Что
это за «Пэ» такое?
Максим поглядел вперед.
– Брось, –
сказал он, – это у тебя думка начинается. Идем.
Но после Никитиных слов
проходить под буквой «П» было довольно страшно, и Максим с
Никитой перелезли
через трубу в нескольких метрах справа от арки, промочив штаны в сырой
траве и
вымазав ноги в грязи. Никита внимательно посмотрел Максиму на ноги.
– Чего это ты в
сапогах ходишь? – спросил он. – Жарко ведь.
– В образ
вхожу, – ответил Максим.
– В какой?
– Гаева. Мы
«Вишневый сад» ставим.
– Ну и как, вошел?
– Почти. Только не
все еще с кульминацией ясно. Я ее до конца пока не увидел.
– А что
это? –
спросил Никита.
– Ну, кульминация
–
это такая точка, которая высвечивает всю роль. Для Гаева, например, это
то
место, когда он говорит, что ему службу в банке нашли. В это время все
вокруг
стоят с тяпками в руках, а Гаев их медленно оглядывает и говорит:
«Буду в
банке». И тут ему сзади на голову надевают аквариум, и он роняет
бамбуковый
меч.
– Почему бамбуковый
меч?
– Потому что он на
бильярде играет, – пояснил Максим.
– А аквариум
зачем? – спросил Никита.
– Ну как, –
ответил Максим. – Постмодернизм. Де Кирико. Хочешь, сам
приходи, посмотри.
– Не, не
пойду, – сказал Никита. – У вас в подвале
сургучом воняет. А
постмодернизм я не люблю. Искусство советских вахтеров.
– Почему?
– А им на посту
скучно было просто так сидеть. Вот они постмодернизм и придумали. Ты в
само
слово вслушайся.
– Никита, –
сказал Максим, – не базарь. Сам, что ли, вахтером не работал?
Слева между холмами
мелькнуло море, но дорога сразу же повернула вправо, и море исчезло.
Впереди
никого не было. Максим полез в карман, вынул оттуда косяк и закурил.
– Ну,
работал, – сказал Никита, принимая дымящуюся
папиросу, – только я
чужого никогда не портил. А ты, даже когда в подвале этом еще не
прижился, уже
был паразит. Вот я тебя картину просил на три корабля обменять, помнишь?
– Какую? –
фальшиво спросил Максим.
– А то не помнишь.
«Смерть от подводного ружья в саду золотых
масок», – ответил
Никита. – А ты что сделал? Вырезал в центре треугольник и
написал «хуй».
– Отец, – с
холодным достоинством ответил Максим, – чего это ты пургу
метешь, а? Мы
ведь это проехали давно. Я тогда был художник‑концептуалист, а это был
хэппенинг.
Никита глубоко вдохнул
дым и закашлялся.
– Говно ты, –
сказал он, отдышавшись, – а не художник‑концептуалист. Ты
просто ничего
больше делать не умеешь, кроме как треугольники вырезать и писать
«хуй», вот
всякие названия и придумываешь. И на «Вишневом саде» вы
тоже треугольник
вырезали и «хуй» написали, а никакой это не спектакль. И
вообще, во всем этом
постмодернизме ничего нет, кроме хуев и треугольников.
– Художника‑концептуалиста
я в себе давно убил, – примирительно сказал Максим.
– А я‑то думаю, чего
это у тебя изо рта так воняет?
Максим остановился и
открыл было рот, но вспомнил, что хотел одолжить у Никиты плана, и
сдержался.
Никита всегда так себя вел, когда чувствовал, что у него скоро попросят
травы.
– Ты, Никита, прямо
как участковый стал, – мягко сказал Максим. – Тот
тоже жизнь
объяснял. Ты, говорил, Максим, на производство идти не хочешь, вот
всякую
ерунду и придумываешь.
– Правильно
объяснял. Ты от этого участкового отличаешься только тем, что, когда он
надевает сапоги, он не знает, что это эстетическое высказывание.
– А сам ты
кто? – не выдержал Максим. – Может, скажешь, не
постмодернист? Такое
же говно, в точности.
Но Никита уже успокоился,
и его глаза подернулись прежней вялой меланхолией.
– А эта картина
хорошая была, – сказал Максим. – «Смерть от
подводного ружья». Она у
тебя какого периода? Астраханского?
– Нет, –
ответил Никита. – Киргизского.
– Да я же
помню, – сказал Максим. – Астраханского.
– Нет, –
сказал
Никита. – Астраханского – это «Пленные
негуманоиды в штабе Киевского
военного округа». У меня тогда был длинный киргизский период,
потом короткий
астраханский, а потом опять киргизский. Чего Горбачеву никогда не
прощу, это
что Среднюю Азию потеряли. Такую страну развалил.
– Думаешь, он
хотел? – спросил Максим, стараясь увести беседу как можно
дальше от
опасной темы. – У него просто не было четкого плана действий.
Никита не поддержал разговора.
Шоссе, по которому они шли, уводило все дальше от моря; вокруг были
только
голые холмы, и Максим подумал, что, если опять начнется дождь,
спрятаться будет
некуда. Он начал замерзать.
– Пошли обратно, что
ли, – сказал он. – Эй, пяточку оставь!
Никита затянулся
последний раз и отдал Максиму окурок.
– Зачем
обратно, – сказал он, – сейчас повернем. Тут
напрямик можно выйти.
От шоссе отходила узкая
асфальтовая дорога. Вдоль нее стоял длинный деревянный забор, за
которым
возвышались недостроенный санаторий и пара подъемных кранов. Максим с
тревогой
подумал, что на дороге могут встретиться собаки, но, когда Никита
свернул с
шоссе, молча пошел следом. Вдруг в голову ему пришла неприятная мысль.
– Слушай,
Никита, – сказал он, – а чего это мы про банку
говорили?
– Это ты про
«Вишневый сад» рассказывал.
– Нет, –
сказал
Максим, – раньше. Про конопляных клопов.
– А. Это коробок
травы банкой накрывают и смотрят – если клопы выползут, значит,
шухер.
Папироса в руке у Максима
издала треск и выпустила длинную и тонкую струю дыма, похожую на
ракетный
выхлоп. Максим вздрогнул.
– Так, –
сказал
он, – а мы почему из дома вышли?
– Стремно
стало, – сказал Никита. – Я подумал, а вдруг
менты придут?
– Понятно, –
сказал Максим и оглянулся. – А ну пошли быстрее.
Он стал таким бледным,
что Никита, поглядев на него, испугался и прибавил шагу.
– Куда
спешить? – спросил он.
– Ты что, не понял
ничего? – сказал Максим. – Нас сейчас брать будут.
Тут дошло и до Никиты. Он
прибавил шагу, оглянулся и увидел на шоссе тормозящий у развилки желтый
милицейский джип с голубой полосой вдоль борта – к сожалению, эти
цвета сейчас
не имели к независимой Украине никакого отношения.
– Стой, –
сказал Никита и поглядел на Максима безумными глазами, – мы
так не уйдем.
Они на машине.
– А что ты
предлагаешь?
– Давай ляжем у
обочины и притворимся мертвыми. Они тогда мимо проедут и сделают вид,
что нас
не видят. На фига им лишнее дело заводить?
– Совсем
рехнулся, – сказал Максим. – Надо спрятаться.
– А где здесь
спрячешься?
– На
свалке, –
сказал Максим.
Слева от дороги
начиналась огромная свалка. Точнее, это была не совсем свалка, а
загаженная до
невозможности площадка, на которой устроили склад стройматериалов
– плит разных
размеров и формы, бетонных кубов и труб, но мусора на ней было гораздо
больше.
Максим оглянулся и увидел, что милицейский джип свернул с шоссе на
дорогу, по
которой они с Никитой только что прошли.
– Бегом, –
прошептал Максим и кинулся в щель между двумя рядами плит. Никита
побежал
следом. Сзади послышалось урчание приближающегося мотора, а потом
стихло.
– Из машины
вышли! – взвизгнул Максим, поскользнулся на мокрой доске,
упал, вскочил на
ноги, завернул еще за одну кладку плит и нырнул в пустую бетонную
трубу,
лежавшую на сырых досках перед огромной горой пустых ящиков. Никита
последовал
за ним. Труба была диаметром почти в два метра, так что не надо было
даже
особенно пригибаться; Максим с Никитой пробежали ее всю и остановились,
шумно
дыша, у тупика, где стены смыкались резким конусом, в центре которого
оставалось отверстие примерно с голову.
– Они нас
видели? – спросил Никита.
– Тише! –
прошептал Максим.
– Не
услышат, –
сказал Никита. – Тут просто акустика такая. Не теряй голову.
– Кто голову
теряет? – сказал Максим. – Я? Это я, что ли,
предложил мертвым
притвориться, как эти клопы?
Никита ничего не сказал и
поглядел на дыру выхода – она белела метрах в пятнадцати и
казалась совсем
небольшой. В трубе было сыро. Никита перевел взгляд на Максима. Когда
тот
задумывался, его лицо менялось, теряло обычное выражение вежливого
достоинства
и становилось похожим на протез – таких лиц было очень много на
фотографиях из
архива Министерства водного хозяйства СССР, часть которого случайно
попала к
Никите в результате сложных двойных и тройных плановых обменов.
– Полчасика
подождем, – сказал Максим, – а потом можно будет
вылезти посмотреть.
Тебя как, тащит еще?
– Ага, –
сказал
Никита.
– Меня тоже. Крутой.
Я у тебя займу два корабля?
Никита кивнул.
– Черт, –
сказал Максим, зная по опыту, что после условного согласия Никиты надо
как
можно быстрее перевести разговор на другую тему, – пилотку
потерял.
Наверно, когда поскользнулся.
– Нет, –
попался Никита. – Ты ее раньше снял. Посмотри в карманах.
Максим полез в карман и
вынул оттуда пачку «Казбека».
– Я тут одну вещь
осознал, – сказал он. – Что папиросы
«Казбек» на самом деле никакой
не «Казбек».
– Почему?
– А посмотри.
Написано «Казбек», а что нарисовано?
– Гора Казбек.
– Так это задний
план, – сказал Максим. – Можно сказать, фон. А на
переднем плане что?
Никита поглядел на пачку
так, словно первый раз в жизни ее видел.
– Действительно, –
сказал он.
– Вот то‑то и оно.
Черный всадник. А ты когда‑нибудь думал, что это за черный всадник на
переднем
плане?
– Завязывай, –
сказал Никита. – Опять думка начнется.
Максим собрался было что‑то
сказать, но Никита поднял палец.
– Тихо, –
прошептал он.
Снаружи послышались
голоса и сразу смолкли. Несколько минут было тихо, а потом Максим
услышал
ритмичный стук, словно кто‑то постукивал пальцами по столу. Звук
приближался, и
скоро стало ясно, что это удары конских копыт. Дробное перестукивание
несколько
раз облетело вокруг трубы и стихло.
– Слушай, –
приподнимаясь, сказал Максим, – по‑моему, это мы зря в
панику ударились.
Чего стрематься? У нас и плана с собой больше нет. Пошли отсюда?
– Пошли, –
согласился Никита и тоже встал с пола.
И вдруг в трубу подул
ветер. Сначала его еще можно было принять за обычный сильный сквозняк,
но не
успел Максим сделать несколько шагов, как ветер достиг такой силы, что
сбил его
с ног и потащил назад. Никита удержал равновесие и даже прошел еще
несколько
метров, сильно наклонясь вперед, но ветер усилился до того, что старые
дощатые
ящики, лежавшие перед круглой дырой выхода, стали срываться с места и
катиться
в трубу. От трех или четырех Никита увернулся, но ветер заставил его
опуститься
на четвереньки и ухватиться за выбоины в бетоне. Он оглянулся. Максим
лежал в
самом конце трубы, уже заваленный ящиками, и небольшая черная дырка над
его
головой страшно гудела, засасывая воздух. Максим закричал, но Никита
ничего не
разобрал, потому что воздушный поток относил все слова назад. Мимо
пролетело
еще несколько ящиков, а потом один из них ударил Никиту по рукам, он
разжал
пальцы и вместе с ящиками покатился в конец трубы. Ветер стал еще
сильнее, и
ящики уже не катились по трубе, а летели в ней, сталкиваясь и ломаясь о
стены.
Никита закрыл уши ладонями и зажмурился, чувствуя, как гул становится
все
громче и тонкие доски со всех сторон вдавливаются в его тело и трещат.
Ветер
стих так же внезапно, как начался.
– Эй, –
крикнул
Никита, – Максим! Ты живой?
– Живой, –
ответил Максим. – А ты где?
– Тут, где же
еще, – ответил Никита.
Спина Максима упиралась в
крутой бетонный скос, а все остальное окружающее пространство было
загромождено
переломанными ящиками так плотно, что нельзя было даже пошевелиться.
Судя по
голосу, Никита был недалеко, метрах в трех‑четырех за мешаниной из
досок и
оргалитовых листов, но виден он не был.
– Что это? –
спросил Максим.
– А ты что, не
понял? –
переспросил Никита с некоторым, как показалось Максиму,
злорадством. – Это
нас в косяк забили.
– Кто? Менты?
– Откуда я
знаю, – сказал Никита.
– Я, кажется, ногу
сломал, – пожаловался Максим.
– Так тебе и
надо, – сказал Никита. – Я сколько раз говорил:
не верти пятки без
табака. Но теперь уже, конечно, никакой разницы. Сейчас такое
будет…
– А что будет?
– А ты, Максим, сам
подумай.
Но думать уже не было
нужды. Опять потянуло ветром, на этот раз он принес с собой густые
клубы дыма,
и Максим с Никитой надолго закашлялись. Максим почувствовал волну
обжигающего
жара и увидел в щелях между досками красные отблески пока далекого
огня. Потом
все вокруг опять заволокло дымом, и Максим зажмурился – держать
глаза открытыми
стало невозможно.
– Никита! –
крикнул он.
Никита не отвечал.
«Так, – стал
соображать Максим, – я в самом конце, а косяк – это
затяжек восемь. Две
уже было. Значит…»
На Максима обрушилась
новая волна жара, и он почувствовал, что задыхается. По его рукам и
лицу потек
горячий деготь.
– Никита! –
опять позвал он и попытался приоткрыть глаза. Сквозь дым сверкнуло
багровое
сияние, уже близкое, и там, где раньше звучал Никитин голос, раздался
оглушительный треск. Максим с трудом отвернул голову от дыры, в которую
стягивался весь дым, и попытался вдохнуть немного воздуха. Это удалось.
«А если короткий
косяк, – с ужасом подумал он, – то ведь и за пять
тяг можно… Господи!
Если ты меня слышишь!»
Максим попытался
перекреститься, но руки были намертво зажаты наваленными вокруг ящиками.
– Господи! Да за что
это мне? – прошептал он.
– Неужели ты
думаешь, – послышался громовой и одновременно задушевный
голос из
отверстия, в которое стягивался дым, – что я хочу тебе зла?
– Нет, –
закричал Максим, вжимаясь в бетон от подступившего жара, –
не считаю!
Господи, прости!
– За тобой нет
никакой вины, – прогремел голос. – Думай о другом.
По крыше автобусной
остановки барабанил дождь. Наташа сидела на узкой железной лавке,
забившись в
холодный стеклянный угол, и плакала. Рядом сидел Сэм и ежился от
долетающих
брызг.
– Наташа, –
позвал он, пытаясь отвести ее руки от лица.
– Сэм, –
сказала Наташа, – не смотри на меня. У меня глаза потекли.
– Тебе надо
успокоиться, – сказал Сэм. – Выпить чего‑нибудь
или…
Он сунул два пальца в
нагрудный карман рубашки, вынул оттуда длинную папиросу со скрученным
концом,
похожим на наконечник стрелы, и, с некоторым сомнением осмотрев ее,
сунул в рот.
Прикурив, он пару раз затянулся и похлопал Наташу по плечу.
– На вот, попробуй.
Наташа осторожно
выглянула из‑под ладоней.
– Что это? –
спросила она.
– Марихуана, –
ответил Сэм.
– Откуда у тебя?
– Не
поверишь, – сказал Сэм. – Иду сегодня утром по
набережной, она еще
пустая была, и слышу – копыта стучат. Оборачиваюсь, смотрю
– скачет всадник,
весь в черном, в длинной такой бурке. Подъезжает ко мне, коня –
на дыбы и
протягивает папиросу. Я и взял. И тут конь как заржет…
– А дальше? –
спросила Наташа.
– Ускакал.
– Очень странно.
– Да нет, –
сказал Сэм, – это, по‑моему, древний татарский обычай. Я
что‑то похожее
читал у Геродота, еще в колледже.
– А мне плохо не
будет? – спросила Наташа.
– Будет
хорошо, – сказал Сэм и затянулся еще раз.
Как бы подтверждая эти
слова, папироса в его пальцах щелкнула и выпустила длинную узкую струю
дыма.
Наташа с опаской, словно это был голый электрический провод, взяла
папиросу и
недоверчиво поглядела на Сэма.
– Я боюсь, –
прошептала она, – я не пробовала никогда.
– Неужели ты
думаешь, – нежно спросил Сэм, – что я хочу тебе
зла?
Наташино лицо
искривилось, и Сэм понял, что вот‑вот она опять заплачет.
– За тобой нет
никакой вины, – так же нежно сказал он. – Думай о
другом.
Наташа сморгнула слезы,
поднесла к губам папиросу и потянула в себя дым. Папироса снова
щелкнула и с
шипением выпустила синюю струйку.
– Что это
щелкает? – спросила Наташа. – Второй раз уже.
– Не знаю, –
сказал Сэм. – Какая разница.
Наташа кинула окурок в
покрытый пузырями ручей, текущий по асфальту прямо между ее тапочками.
Окурок
шлепнулся в воду, погас и поплыл, покачиваясь, вдаль; ручей водопадиком
обрушивался с тротуара на мостовую, и когда картонная гильза
перевалилась через
бетонный бордюр, Наташа потеряла ее из виду.
– Видишь, Наташа,
эти пузыри? – спросил Сэм. – Вот так и мы.
Насекомые убивают друг
друга, часто даже не догадываясь об этом. И никто не знает, что будет с
нами
завтра.
– Я даже не
заметила, как он подлетел, – сказал Наташа. – Все
машинально вышло.
– Он был
пьян, – сказал Сэм. – И потом, кто же в ляжку
кусает? Только
самоубийцы. Это ведь самое чувствительное место.
Он положил руку на
Наташину ногу.
– Вот сюда, да?
– Да, –
тихонько ответила Наташа.
– Не болит?
Наташа подняла на Сэма
пустые и загадочные зеленые глаза.
– Поцелуй меня,
Сэм, – попросила она.
Дождь постепенно стихал.
Стеклянная стена остановки была оклеена выцветшими объявлениями.
Впившись в
Наташины губы, Сэм заметил прямо напротив своего лица бумажку с
надписью:
«Дешево продается жирная собака. Звонить вечером, спросить
Сережу». Полоски с
телефонами были оборваны, а почерк был крупный, твердый и наклоненный
влево.
Сэм перевел глаза. Рядом висело другое объявление: «Интимный
электромассаж на
дому. Оплата по договоренности». Из‑под него выглядывало третье
объявление, в
котором человек по имени Андрис выражал нетерпеливое желание купить
кресло
«Мемфис» из гарнитура «Атлантис».
– Ох, Сэм, –
сказала Наташа, – так меня еще никто не целовал.
– Куда бы нам
пойти? – сказал Сэм.
– У меня мать
дома, – сказала Наташа, – а я с ней в ссоре.
– Может, ко мне в
гостиницу?
– Что ты! Что про
меня подумают? Тут же все всех знают. Уж лучше ко мне.
– А мать?
– Она нас не увидит.
Только у нее есть одна ужасная привычка – она все время вслух
читает. Иначе до
нее смысл не доходит.
– Далеко это?
– Нет, –
сказала Наташа, – совсем рядом. Минут семь идти от силы.
Сэм, я, наверно,
страшная, да?
Сэм встал, вышел из‑под
навеса и поглядел вверх.
– Идем, –
сказал он. – Дождь кончился.
За время дождя ведущая к
пансионату грунтовка превратилась в сплошной разлив грязи, и увитый
виноградом
серебристый Ильич, торчащий на ее краю, казался носовой фигурой
корабля,
засосанного вязким рыжим месивом. Сначала Сэм пытался ступать в те
места, где
грязь казалась менее глубокой, но через несколько метров дорога стала
казаться ему
хитрым и злым живым существом, старающимся как можно сильнее нагадить
ему за то
время, пока он пользуется ее услугами. Он выбрался на траву и пошел по
ней –
ноги сразу промокли, но зато грязь с мокасин быстро обтерлась о сырые
стебли.
Наташа шла впереди, держа в каждой руке по тапочку и балансируя ими с
удивительным изяществом.
– Почти
пришли, – сказала она, – теперь направо.
– Но там же
газон, – сказал Сэм.
– Да, –
сказала
Наташа, – живем мы скромно, но другие еще хуже. Вот сюда. Не
поскользнись.
Руку держи.
– Ничего, слезу. А,
черт.
– Я же говорила,
руку возьми. Ничего, застираем, за час высохнет. Теперь вперед и
налево.
Пригнись только, а то головой заденешь. Ага, вот сюда.
– Можно посветить?
– Не надо, мать
проснется. Сейчас глаза привыкнут. Ты только тише говори, а то ее
разбудишь.
– А где
она? –
шепотом спросил Сэм.
– Там, –
прошептала Наташа.
Постепенно Сэм начал
различать окружающее. Они с Наташей сидели на небольшом диване; рядом
стояла
тумбочка с двухкассетником и письменный стол, над которым висела полка
с
несколькими книжками. В углу тихонько трещал маленький белый
холодильник, на
дверце которого, как бы компенсируя очевидное отсутствие мяса внутри,
помещался
плакат с голым по пояс Сильвестром Сталлоне. Метрах в трех от дивана
комната
была перегорожена доходившей почти до низкого потолка желтой ширмой.
Сэм достал сигарету и
щелкнул зажигалкой. Наташа попыталась поймать его за руку, но было уже
поздно –
комната осветилась, и из‑за ширмы долетел тихий женский стон.
– Ну все, –
сказала Наташа, – разбудил.
За ширмой что‑то тяжело
пошевелилось и прокашлялось, потом зашуршала бумага, и тонкий женский
голос
начал громко и членораздельно читать:
– …Но, конечно
же, у
всех сколько‑нибудь смыслящих в искусстве насекомых уже давно не
вызывает
сомнения тот факт, что практически единственным актуальным эстетическим
эпифеноменом литературного процесса на сегодняшний день –
разумеется, на
эгалитарно‑эсхатологическом внутрикультурном плане – альманах
«Треугольный
хуй», первый номер которого скоро появится в продаже. Обзор
подготовили
Всуеслав Сирицын и Семен Клопченко‑Конопляных. Примечание. Мнение
авторов может
не совпадать с мнением редакции. Полет над гнездом врага. К
пятидесятилетию со
дня окукливания Аркадия Гайдара…
– Теперь можно вслух
говорить, – сказала Наташа, – она ничего не
услышит.
– И часто она
так? – спросил Сэм.
– Целыми днями.
Может, музыку включим?
– Не надо, –
сказал Сэм.
– Дай я
затянусь, – сказала Наташа, присаживаясь к Сэму на колени и
вынимая из его
пальцев горящую сигарету.
Сэм обнял ее за живот и
нащупал под мокрой зеленой тканью горячую впадинку пупка.
– И
получается, – монотонно читал за ширмой тонкий
голос, – что прочесть
его, в сущности, некому: взрослые не станут, а дети ничего не заметят,
как
англичане не замечают, что читают по‑английски.
«Прощай! – засыпал
я. – Бьют барабаны марш‑поход. Каждому отряду своя дорога,
свой позор и
своя слава. Вот мы и разошлись. Топот смолк, и в поле
пусто…»
– Как это она без
света читает? – тихо спросил Сэм, стараясь отвлечь внимание
Наташи от
неловкой паузы, в которой была виновата неподатливая пластмассовая
«молния».
– Не знаю, –
прошептала Наташа. – Сколько себя помню, все время одно и то
же… Наверно,
помнит наизусть.
– Видишь мир глазами
маленького мальчика, – читал голос, – и не из‑за
примитивности
описанных чувств – они достаточно сложны, – а из‑за
тех бесконечных
возможностей, которые таит в себе мир «Судьбы барабанщика».
Это как бы одно из
свойств жизни, на котором не надо и нельзя специально останавливаться,
равнодушная и немного печальная легкость, с которой герой встречает
новые
повороты своей жизни. «Никто теперь меня не узнает и не
поймет, – думал
я. – Отдаст меня дядя в мичманскую школу, а сам уедет в
Вятку… Ну и пусть!
Буду жить один, буду стараться. А на все прошлое плюну и забуду, как
будто его
и не было…» Вселенная, в которой живет герой,
по‑настоящему прекрасна: «А на
горе, над обрывом, громоздились белые здания, казалось – дворцы,
башни светлые,
величавые. И пока мы подъезжали, они неторопливо разворачивались,
становились
вполоборота, поглядывая одно за другим через могучие каменные плечи, и
сверкали
голубым стеклом, серебром и золотом…»
– Наташа, –
сдался Сэм, – как это расстегнуть?
– Да она и не
расстегивается, – хихикнула Наташа, – она так
пришита, для красоты.
Она взялась за подол и
одним быстрым движением стянула платье через голову.
– Фу, –
сказала
она, – волосы растрепались.
– Но кто смотрит на
этот удивительный и все время обновляющийся мир? – вопросил
голос за
ширмой. – Кто тот зритель, в чувства которого мы
погружаемся? Можно ли
сказать, что это сам автор? Или это один из его обычных мальчиков, в
руку
которому через несколько десятков страниц ложится холодная и надежная
рукоять
браунинга? Кстати сказать, тема ребенка‑убийцы – одна из главных
у Гайдара.
Вспомним хотя бы «Школу» и тот как бы звучащий на всех ее
страницах выстрел из
маузера в лесу, вокруг которого крутится все остальное повествование.
Да и в
последних работах – «Фронтовых записях» – эта
линия нет‑нет, да и вынырнет:
«Боясь, что ему не поверят, он вытягивает из‑за пазухи завернутый
в клеенку
комсомольский билет… Я смотрю ему в глаза. Я кладу ему в горячую
руку обойму…
Ой, нет! Этот паренек заложит обойму не в пустую кринку…»
Расстегнув рубаху Сэма,
Наташа прижала нежные присоски на своих ладонях к его покрытой жесткими
волосками груди.
– Но нигде эта
нота, – усилился голос, – не звучит так
отчетливо, как в «Судьбе
барабанщика». Собственно, все происходящее на страницах этой
книги – прелюдия к
тому моменту, когда барабанной дроби выстрелов откликается странное
эхо,
приходящее не то с небес, не то из самой души лирического во всех
смыслах
героя. «Тогда я выстрелил раз, другой, третий… Старик Яков
вдруг остановился и
неловко попятился. Но где мне было состязаться с другим матерым волком,
опасным
и беспощадным снайпером!… Даже падая, я не переставал слышать
все тот же звук,
чистый и ясный, который не смогли заглушить ни внезапно загрохотавшие
по саду
выстрелы, ни тяжелый удар разорвавшейся неподалеку бомбы…»
Наташины ладони поползли
вниз и наткнулись на что‑то, напоминающее теплый блок цилиндров
гоночной
машины. Наташа сообразила, что это место, откуда у Сэма растут лапки,
нежно
погладила его и повела ладонь ниже, пока не коснулась первой полоски на
его
покрытом короткой щетиной перепончатом брюшке.
– Oh yeah,
honey, –
пробормотал Сэм, – I can feel it.
Его лапка легла на
прохладную и твердую Наташину спину и нащупала поросшее влажным мхом
основание
подрагивающего крыла.
– It's been my dream
for ages, – прошептала Наташа с оптимистической интонацией
лингафонного курса, –
to learn American bed whispers…
– Убийство
здесь, – откликнулся голос за ширмой, – мало чем
отличается от,
скажем, попыток открыть ящик стола с помощью напильника или от мытарств
с
негодным фотоаппаратом – коротко и ясно описана внешняя сторона
происходящего и
изображен сопровождающий действия психический процесс, напоминающий
трогательно
простую мелодию небольшой шарманки. Причем этот поток ощущений, оценок
и
выводов таков, что не допускает появления сомнений в правильности
действий
героя. Конечно, он может ошибаться, делать глупости и сожалеть о них,
но он
всегда прав, даже когда не прав. У него есть естественное право
поступать так,
как он поступает. В этом смысле Сережа Щербачов – так зовут
маленького
барабанщика – без всяких усилий достигает того состояния духа, о
котором
безнадежно мечтал Родион Раскольников. Можно сказать, что герой Гайдара
– это
Раскольников, который идет до конца, ничего не пугаясь, потому что по
молодости
лет и из‑за уникальности своего жизнеощущения просто не знает, что
можно чего‑то
испугаться, просто не видит того, что так мучит петербургского
студента; тот
обрамляет свою топорную работу унылой и болезненной саморефлексией, а
этот
начинает весело палить из браунинга после следующего внутреннего
монолога:
«Выпрямляйся, барабанщик! – уже тепло и ласково
подсказал мне все тот же
голос. – Встань и не гнись! Пришла пора!» Отбросим
фрейдистские
реминисценции…
Сэм почувствовал, как его
хоботок выпрямляется под проворными лапками Наташи, и разомлело
посмотрел ей в
лицо. От ее подбородка отвисал длинный темный язык с мохнатым кончиком,
разделяющимся на два небольших волосатых отростка. Этот язык
возбужденно
подрагивал, и по нему скатывались темно‑зеленые капли густой секреции.
– Eat me, –
прошептала Наташа, потянула за длинные шершавые антенны, торчавшие
из‑под глаз
Сэма, и он с жужжанием и стоном вонзил хоботок в хрустнувший зеленый
хитин ее
спины.
– …всегда были
сложные отношения с ницшеанством. Достоевский пытался художественно
обосновать
его несостоятельность – и сделал это вполне убедительно. Правда,
с некоторой
оговоркой: он доказал, что такая система взглядов не подходит для
выдуманного
им Родиона Раскольникова. А Гайдар создал такой же убедительный и такой
же
художественно правдивый, то есть не вступающий в противоречие со
сформированной
самим автором парадигмой, образ сверхчеловека. Сережа абсолютно
аморален, и это
неудивительно, потому что любая мораль или то, что ее заменяет, во всех
культурах вносится в детскую душу с помощью особого леденца,
выработанного из
красоты. На месте пошловатого фашистского государства «Судьбы
барабанщика»
Сережины голубые глаза видят бескрайний романтический простор; он
населен
возвышенными исполинами, занятыми мистической борьбой, природа которой
чуть
приоткрывается, когда Сережа спрашивает у старшего сверхчеловека,
майора НКВД
Герчакова, каким силам служил убитый на днях взрослый. «Человек
усмехнулся. Он
не ответил ничего, затянулся дымом из своей кривой трубки (sic!),
сплюнул на
траву и неторопливо показал рукой в ту сторону, куда плавно опускалось
сейчас
багровое вечернее солнце».
Прижимаясь к быстро
надувающемуся и твердеющему брюшку Сэма, уже багровому, Наташа сжала
его всеми
шестью лапками.
– Oh, –
шептала
она, – it's getting so big… So big and hard…
– Yeah,
baby, –
нечленораздельно отвечал Сэм. – You smell good. And you
taste good.
– Итак, –
сказала женщина за ширмой, – что написал Гайдар, мы более
или менее
выяснили. Теперь подумаем, почему. Зачем бритый наголо мужчина в
гимнастерке и
папахе на ста страницах убеждает кого‑то, что мир прекрасен, а
убийство,
совершенное ребенком, – никакой не грех, потому что дети
безгрешны в силу
своей природы? Пожалуй, по‑настоящему близок Гайдару по духу только
Юкио
Мисима. Мисиму можно было бы назвать японским Гайдаром, застрели он
действительно из лука хоть одного из святых себастьянов своего
прифронтового
детства. Но Мисима идет от вымысла к делу, если, конечно, считать делом
ритуальное самоубийство после того, как его фотография в позе Святого
Себастьяна украсила несколько журнальных статей о нарождающемся
японском
культуризме, а Гайдар идет от дела к вымыслу, если, конечно, считать
вымыслом
точные снимки переживаний детской души, перенесенные из памяти в
физиологический раствор художественного текста. «Многие записи в
его дневниках
не поддаются прочтению, – пишет один из
исследователей. – Гайдар
пользовался специально разработанным шифром. Иногда он отмечал, что его
снова
мучили повторяющиеся сны „по схеме 1“ или „по схеме
2“. И вдруг открытым
текстом, как вырвавшийся крик: „Снились люди, убитые мной в
детстве“…»
Голос за ширмой замолчал.
– Чего это
она? – спросил Сэм.
– Уснула, –
ответила Наташа.
Сэм нежно погладил
колючий кончик ее брюшка и откинулся на диван. Наташа тихонько
сглотнула. Сэм
подтянул к себе стоящий на полу кейс, раскрыл его, вынул маленькую
стеклянную
баночку, сплюнул в нее красным, завинтил и кинул обратно – вся
эта операция
заняла у него несколько секунд.
– Знаешь,
Наташа, – сказал он. – По‑моему, все мы,
насекомые, живем ради
нескольких таких моментов.
Наташа уронила
побледневшее лицо на надувшийся темный живот Сэма, закрыла глаза, и по
ее щекам
побежали быстрые слезы.
– Что ты,
милая? – нежно спросил Сэм.
– Сэм, –
сказала Наташа, – вот ты уедешь, а я здесь останусь. Ты хоть
знаешь, что
меня ждет? Ты вообще знаешь, как я живу?
– Как? –
спросил Сэм.
– Смотри, –
сказала Наташа и показала овальный шрам на своем плече, похожий на
увеличенный
в несколько раз след от оспяной прививки.
– Что это? –
спросил Сэм.
– Это от ДДТ. А на
ноге такой же от раствора формалина.
– Тебя что, хотели
убить?
– Нас всех, –
сказала Наташа, – кто здесь живет, убить хотят.
– Кто? –
спросил Сэм.
Вместо ответа Наташа
всхлипнула.
– Но ведь есть же
права насекомых, наконец…
– Какие там
права, – махнула лапкой Наташа. – А ты знаешь,
что такое цианамид
кальция? Двести грамм на коровник? Или когда в закрытом навозохранилище
распыляют железный купорос, а улететь уже поздно? У меня две подруги
так
погибли. А третью, Машеньку, хлористой известью залили. С вертолета.
Французский учила, дура… Права насекомых, говоришь? А про
серно‑карболовую
смесь слышал? Одна часть неочищенной серной кислоты на три части сырой
карболки
– вот и все наши права. Никаких прав ни у кого тут не было
никогда и не будет,
просто этим, – Наташа кивнула вверх, – валюта
нужна. На теннисные
ракетки и колготки для жен. Сэм, здесь страшно жить, понимаешь?
Сэм погладил Наташину
голову, поглядел на украшенный плакатом холодильник и вспомнил
Сильвестра
Сталлоне, уже раздетого неумолимым стечением обстоятельств до маленьких
плавок
и оказавшегося на берегу желтоватой вьетнамской реки рядом с
вооруженной
косоглазой девушкой. «Ты возьмешь меня с собой?» –
спросила та.
– Ты возьмешь меня с
собой? – спросила Наташа.
Рэмбо секунду подумал.
«Возьму», – сказал Рэмбо.
Сэм секунду подумал.
– Видишь ли,
Наташа…
– начал он и вдруг оглушительно чихнул.
За ширмой что‑то большое
пошевелилось, вздохнуло, и оттуда монотонно понеслось:
– Закрывая «Судьбу
барабанщика», мы знаем, что шептал маленькому вооруженному
Гайдару описанный им
теплый и ласковый голос. Но почему же именно этот юный стрелок,
которого даже
красное командование наказывало за жестокость, повзрослев, оставил нам
такие
чарующие и безупречные описания детства? Связано ли одно с другим? В
чем
состоит подлинная судьба барабанщика? И кто он на самом деле? Наверное,
уже настала
пора ответить на этот вопрос. Среди бесчисленного количества насекомых,
живущих
на просторах нашей необъятной страны, есть и такое – муравьиный
лев. Во время
первой фазы своей жизни это отвратительное существо, похожее на
бесхвостого
скорпиона, которое сидит на дне песчаной воронки и поедает
скатывающихся туда
муравьев. Потом что‑то происходит, и монстр со страшными клешнями
покрывается
оболочкой, из которой через неделю‑две вылупляется удивительной красоты
стрекоза с четырьмя широкими крыльями и зеленоватым узким брюшком. И
когда она
улетает в сторону багрового вечернего солнца, на которое в прошлой
жизни могла
только коситься со дна своей воронки, она, наверное, не помнит уже о
съеденных
когда‑то муравьях. Так, может… снятся иногда. Да и с ней ли это
было? Майор Е.
Формиков. Весна тревоги нашей. Репортаж с учений магаданской флотилии
десантных
ледоколов…
Стебли травы сгибались
под собственной тяжестью, образуя множество возникающих на секунду
ворот, а
вверху в зеленое ночное небо уходили светло‑коричневые колонны огромных
деревьев – собственно, их смыкающиеся кроны и были этим небом.
Митя летел между
стеблями, все время меняя направление, и перед ним появлялись новые и
новые
коридоры покачивающихся триумфальных арок. Трава светилась в темноте,
когда ее
сгибал ветер, или, может быть, сияние появлялось из воздуха всякий раз,
когда в
нем перемещался один из стеблей, словно качающаяся трава выцарапывала
свет из
темноты.
Внизу делала свои
однообразные движения жизнь – мириады разноцветных насекомых
ползли по земле, и
каждое из них толкало перед собой навозный шар. Некоторые раскрывали
крылья и
пытались взлететь, но удавалось это немногим, да и они почти сразу
падали на
землю под тяжестью своего шара. Большая часть насекомых двигалась в
одном направлении,
к залитой светом поляне, которая иногда мелькала в просветах между
стеблями.
Митя полетел в ту же сторону и вскоре увидел впереди большой пень
неизвестного
южного дерева – он был совершенно гнилой и светился в темноте.
Вся поляна перед
ним была покрыта шевелящимся пестрым ковром насекомых; они завороженно
глядели
на пень, от которого исходили харизматические волны, превращавшие его в
несомненный и единственный источник смысла и света во Вселенной.
Каким‑то
образом Митя понял, что эти волны были просто вниманием, отраженным
вниманием
всех тех, кто собрался на поляне, чтобы увидеть этот пень.
Подлетев чуть ближе, он
разглядел небольшую кучку насекомых, стоявших по периметру пня,
повернувшись к
поляне. Они были самыми разными – среди них были очень красивые
древесные клопы
с мозаиками на хитиновых панцирях, черные богомолы с молитвенно
сложенными
лапками, осы, сверкающие скарабеи, множество стрекоз и бабочек с
цветными
крыльями; за их спинами виднелись несколько строго‑серых пауков,
которые,
впрочем, не очень лезли на глаза собравшимся внизу насекомым. Что
происходило в
самом центре пня, не было видно, и от этого возникало ощущение темной
тайны –
казалось, там сидит очень грозное и всесильное насекомое, настолько
могущественное, что видеть его не положено никому, и очень хотелось
думать, что
оно хорошее и доброе. Насекомые на краю пенька легонько дирижировали
лапками,
как бы следуя беззвучной музыке, и в такт их движениям покачивалась
собравшаяся
внизу огромная толпа. Ее движения словно следовали неслышному мотиву, и
так
четко, что он был почти слышен – казалось, на далеком органе
играют мелодию,
которая была бы даже величественной, если бы ее время от времени не
прерывало
непонятное «умпс‑умпс». Но стоило перестать смотреть на
пенек и ритмично
покачивающуюся вокруг толпу насекомых, и сразу становилось ясно, что
вокруг
тишина.
Митя поднялся довольно
высоко, скоро пень оказался под ним – теперь он мог посмотреть,
что находится в
самом его центре, и от этой возможности стало чуть не по себе, особенно
когда
вспомнились разоблачения многочисленных тайн этого пня в газетах,
которые
продают муравьи в самых глубоких и темных переходах прорытого ими
метрополитена. Митя опустил взгляд и вздрогнул.
В центре пня была лужа, в
которой плавало несколько похожих на соленые огурцы гнилушек. Точнее,
даже не в
центре – пень был настолько гнилым, что от него осталась только
кора, а сразу
за ней начиналась трухлявая яма, полная гнилой воды.
Митя представил себе, что
случится, когда кора треснет и вода хлынет на живой ковер,
покачивающийся
вокруг пня, и ему стало страшно. И тут он заметил, что исходящий от пня
свет
странно мерцает – как будто кто‑то со страшной скоростью гасит
его и зажигает
опять, выхватывая из темноты неподвижную толпу крошечных гипсовых
насекомых,
почти такую же, как миг назад, но все же немного иную.
Внизу непрерывным потоком
ползли спешащие к пню насекомые, напирали на тех, кто прополз по этому
же пути
раньше, и втаптывали их в землю – словно живой разноцветный ковер
стягивался к
пню и подворачивался сам под себя. Насекомые прыгали на пень, и большая
их
часть срывалась вниз, попадая под лапки, шипы и рога наползающей со
всех сторон
смены, но некоторым удавалось подняться вверх, к тем, кто стоял на
зеленовато
светящемся краю; они очень проворно залезали туда, сразу же
поворачивались
таким образом, чтобы ни в коем случае не увидеть, что находится в
центре пня, и
принимались дирижировать, поддерживая и возобновляя неизвестно кем и
когда
выдуманную мелодию.
Митя полетел прочь. Было
некому рассказать, что этот пенек вместе со всеми теми, кто на нем
собрался, – еще далеко не все, что есть в мире, и от этого
делалось
грустно, а еще грустнее было оттого, что и сам Митя в этом не был
вполне
уверен. Но, долетев до границы поляны, он увидел рассеянный свет,
излучаемый не
то травой, не то трущимся о нее ветром, вспомнил, что с ним было до
того, как
он попал на поляну с гнилым пнем, и успокоился. Над ним опять понеслись
триумфальные арки согнутых стеблей, и чем дальше от поляны он улетал,
тем
меньше внизу оставалось спешащих к ней насекомых. Скоро их не осталось
совсем,
и тогда вокруг стали появляться цветы. Они казались разноцветными
посадочными
площадками необычных форм, но испускали такой одуряющий запах, что Митя
предпочитал любоваться ими на расстоянии, тем более что на некоторых
копошились
ушедшие от мира пчелы, уединения которых Митя не хотел нарушать.
В траве впереди мелькнул
красный огонек, и Митя автоматически повернул к нему. Когда он оказался
так
близко, что на всем вокруг появился слабый красноватый отблеск, Митя
полетел,
крадучись, подолгу зависая за широкими стеблями и незаметно перелетая
от одного
к другому. После нескольких таких маневров он выглянул из‑за стебля и
увидел
рядом, прямо перед собой, двух очень странных, ни на кого не похожих
красных
жуков. На головах у них были большие желтые выросты, похожие на
широкополые
соломенные шляпы, а низ брюшка был, насколько Митя мог разглядеть,
цвета хаки.
Они сидели на стебле в полной неподвижности и задумчиво смотрели вдаль,
чуть
покачиваясь вместе с растением.
– Я думаю, –
сказал один из жуков, – что в мире нет ничего выше нашего
одиночества.
– Если не считать
эвкалиптов, – сказал второй.
– И
платанов, –
подумав, добавил первый.
– И еще дерева
чикле, – сказал второй.
– Дерева чикле?
– Да, –
повторил второй, – дерева чикле, которое растет в
юго‑восточной части
Юкатана.
– Пожалуй, –
согласился первый, – но уж этот гнилой пенек на соседней
поляне никак не
выше нашего одиночества.
– Это
точно, –
сказал второй.
Красные жуки опять
задумчиво уставились вдаль.
– Что нового в твоих
снах? – спросил через несколько минут первый.
– Много
чего, –
сказал второй. – Вот сегодня, например, я обнаружил далекий
и очень
странный мир, откуда нас тоже кто‑то увидел.
– Неужели? –
спросил первый.
– Да, –
ответил
второй. – Но тот, кто нас увидел, принял нас за две красные
лампы на
вершине горы, стоящей у моря.
– И что мы сделали в
твоем сне? – спросил первый.
Второй выдержал
драматическую паузу.
– Мы
светились, – сказал он с индейской
торжественностью, – пока не
выключили электричество.
– Да, –
сказал
первый, – наш дух действительно безупречен.
– Еще бы, –
отозвался второй. – Но самое интересное, что тот, кто нас
заметил,
прилетел прямо сюда и прячется сейчас за соседним стеблем.
– В самом
деле? – спросил первый.
– Конечно, –
сказал второй. – Да ты ведь и сам знаешь.
– И что он
собирается делать? – спросил первый.
– Он, –
сказал
второй, – собирается прыгнуть в колодец номер один.
– Интересно, –
сказал первый, – а почему в колодец номер один? Он ведь
точно так же может
прыгнуть в колодец номер три.
– Да, –
подумав, сказал второй, – или в колодец номер девять.
– Или в колодец
номер четырнадцать, – сказал первый.
– Но лучше
всего, – сказал второй, – это прыгнуть в колодец
номер сорок восемь.
Митя вжался в стебель,
слушая, как в нескольких метрах от него стремительно нарастают
числительные, и
тут ему на плечо легла чья‑то рука и сильно его тряхнула.
Повернув голову, он
увидел склонившегося над ним Диму. Вокруг была площадка на вершине
горы, над
которой поднималась мачта с двумя красными фонарями (сейчас они уже не
горели),
рядом стояли две складные табуретки, а сам он лежал под кустом.
– Вставай, –
сказал Дима. – У нас мало времени.
Митя поднялся, помотал
головой, пытаясь вспомнить только что снившийся сон, но тот уже
улетучился и
оставил после себя только неясное ощущение.
Дима пошел по узкой
тропинке, ведущей прочь от шеста с двумя красными лампами. Митя
поплелся
следом, еще позевывая, но через несколько десятков метров, когда
тропинка
превратилась в узкий карниз, под которым не было ничего, кроме
стометровой
пустоты и моря, остатки сна слетели с него окончательно. Тропинка
нырнула в
щель между скалами, прошла под низкой каменной аркой (тут у Мити
мелькнуло
неясное воспоминание, связанное со сном) и вывела в небольшую
расщелину,
заросшую темными кустами. Митя сорвал несколько холодных ягод
терновника, кинул
их в рот и сразу же выплюнул, увидев яркий белый череп, лежащий под
кустом.
Череп был маленький и узкий, наподобие собачьего, только меньше и
тоньше.
– Там, –
сказал
Дима, показывая на кусты.
– Что? –
спросил Митя.
– Колодец.
– Какой
колодец? – спросил Митя.
– Колодец, в который
ты должен заглянуть.
– Зачем?
– Это единственный
вход и выход, – сказал Дима.
– Куда?
– Для того чтобы на
это ответить, – сказал Дима, – надо заглянуть в
колодец. Сам все
увидишь.
– Да что это такое?
– По‑моему, –
сказал Дима, – ты сам знаешь, что такое колодец.
– Знаю.
Приспособление для подъема воды.
– А еще? Когда‑то ты
мне сам говорил про города и про колодец. Что‑то о том, что города
меняют, а
колодец остается одним и тем же.
– Помню. Это сорок
восьмая гексаграмма, – сказал Митя и опять подумал, что
очень похожее
только что было с ним во сне. – Она так и называется –
колодец. «Меняют
города, но не меняют колодец. Ничего не утратишь, но и ничего не
приобретешь.
Уйдешь и придешь, но колодец останется колодцем… Если почти
достигнешь воды, но
не хватит веревки, и если разобьешь бадью, –
несчастье!»
– Откуда
это? –
спросил Дима.
– «Книга
перемен».
– Ты ее что,
наизусть знаешь?
– Нет, – с
некоторым неудовольствием признался Митя. – Просто эта
гексаграмма мне
пять раз выпадала.
– Как интересно. И о
чем она?
– О колодце. О том,
что существует некий колодец, которым можно пользоваться. Точнее,
сначала им
нельзя пользоваться, потому что на первой позиции в нем нет воды, на
второй ее
нельзя зачерпнуть, а на третьей ее некому пить. Зато потом все приходит
в
норму. Если я не путаю. А смысл примерно в том, что мы носим в себе
источник
всего, что только может быть, но поскольку первая, вторая и третья
позиции
символизируют недостаточно высокие уровни развития, то на них этот
источник еще
не доступен. Вообще, символично, что к этой гексаграмме мы переходим от
гексаграммы «истощение», на пятой позиции которой…
– Хватит, –
перебил Дима. – Помнишь песню, что мы слышали на набережной?
Насчет того,
где найти себя? Та, кто ее пела, совершенно не понимала, о чем она
поет. И ты
точно так же не понимаешь, о чем сейчас говоришь. А чтобы понять, что
ты только
что сказал, тебе надо заглянуть в колодец.
– А если я не пойду?
– Не пойти ты просто
не можешь.
– Почему? –
спросил Митя.
Дима посмотрел на его
руки. Митя проследил за взглядом, уставился на свои ладони и понял, что
они
больше не светятся в темноте. Еще несколько минут назад, когда они
начинали
дорогу к этому месту, ладони сияли – не таким ярким, как вчера,
но чистым и
ясным голубым светом.
– Вот именно
поэтому, – сказал Дима. – Иначе все, что ты
понял, исчезнет. И в
лучшем случае ты успеешь написать еще пару стихотворных посланий
совершенно не
нуждающимся в них комарам.
– Меня иногда
поражает твой апломб, – сказал Митя.
Дима развернул его на
месте и толкнул в спину.
Кусты были густыми и
колючими; прикрывая пальцами глаза, Митя сделал несколько шагов,
поскользнулся
и полетел вниз.
Он падал спиной вперед,
хватаясь руками за рыхлые стены, падал очень долго, но вместо того,
чтобы
упасть на дно, впал в задумчивость.
Время не то исчезло, не
то растянулось – все, что он видел, менялось, не меняясь,
каким‑то образом постоянно
оказываясь новым, а его пальцы все пытались уцепиться за тот же самый
участок
стены, что и в начале падения. Как и вчера, он чувствовал, что смотрит
на что‑то
странное, что‑то такое, на что не смотрел никогда в жизни и вместе с
тем
смотрел всегда. Когда он попытался понять, что он видит, и найти в
своей памяти
нечто похожее, ему вспомнился обрывок виденного по телевизору фильма,
где
несколько ученых в белых халатах были заняты очень странным делом
– вырезали из
картона круги с небольшими выступами и насаживали их на сверкающий
металлический штырь, словно чеки в магазине; картонные круги
становились все
меньше и меньше, и в конце концов на штыре оказалась человеческая
голова,
составленная из тонких листов картона; ее обмазали синим пластилином, и
на этом
фильм кончился.
То, что видел Митя,
больше всего напоминало эти картонные круги: последним, самым верхним
кругом
был испуг от падения в колодец, предпоследним – опасение, что
колючая ветка
куста хлестнет по глазам, до этого была досада, что так быстро исчез
приснившийся мир, где на длинной травинке беседовали два красных жука;
еще
раньше – страх перед летучей мышью, наслаждение полетом над
залитыми луной
камнями, озадаченность непонятным вопросом Димы, тоска от стука
доминошных
костей над пустой набережной и от того, главным образом, что в
собственной
голове сразу стала видна компания внутренних доминошников, и так
– ниже и ниже,
за один миг – сквозь всю жизнь, сквозь все сплющившиеся и
затвердевшие чувства,
которые он когда‑либо испытал.
Сначала Митя решил, что
видит самого себя, но сразу же понял: все находящееся в колодце на
самом деле
не имеет к нему никакого отношения. Он не был этим колодцем, он был
тем, кто
падал в него, одновременно оставаясь на месте. Может быть, он был
пластилином,
скрепляющим тончайшие слои наложенных друг на друга чувств. Но главным
было
другое. Пройдя сквозь бесчисленные снимки жизни к точке рождения,
оказавшись в
ней и заглянув еще глубже, чтобы увидеть начало, он понял, что смотрит
в
бесконечность.
У колодца не существовало
дна. Никакого начала никогда не было.
И тут же Митя увидел еще
одно – все, что было в колодце под точкой, с которой он привык
начинать свой
личный отсчет, вовсе не было пугающим, за– или догробным
(догробный мир,
подумал он, надо же), таинственным или неизвестным. Оно всегда
существовало
рядом, даже ближе, чем рядом, а не помнил он про это потому, что оно и
было
тем, что помнило.
– Эй, –
услышал
он далекий голос. – Вылезай! Хватит. Не разбей бадью.
Он почувствовал, что его
тянут за руку, потом по лицу прошлась ветка с острыми шипами, перед
глазами
мелькнули черные листья, и он увидел перед собой Диму.
– Пошли
отсюда, – сказал Дима.
– Что это
было? – спросил Митя.
– Колодец, –
сказал Дима таким тоном, словно открывал большую тайну.
– А я в него не
упаду опять?
Дима остановился и с
недоумением посмотрел на него.
– Мы не можем упасть
в колодец, в котором и так находились целую вечность. Мы можем только
выйти из
него.
– А теперь я из него
вышел?
– Не теперь, а
тогда. Ты сейчас опять в нем. А когда ты его видел, ты высунул голову.
Жизнь
очень странно устроена. Чтобы вылезти из колодца, надо в него упасть.
– А зачем?
– Из колодца можно
что‑нибудь вынести. Он содержит бесценные сокровища. Точнее, сам по
себе он
ничего не содержит, и ты выходишь оттуда таким же, как вошел. Но в нем
ты
можешь заметить то, что есть у тебя самого и про что ты давно забыл.
Митя погрузился в
размышления и остаток пути шел молча.
– Я никаких сокровищ
там не заметил, – сказал он, когда оба вернулись на площадку
под
маяком. – Я просто за один миг увидел свою жизнь. И даже
больше.
– Вся
жизнь, –
ответил Дима, – и, как ты выразился, даже больше, существует
один миг. Вот
именно тот, который происходит сейчас. Это и есть бесценное сокровище,
которое
ты нашел. И теперь ты сможешь поместить в один миг все, что хочешь
– и свою
жизнь, и чужую.
– Но я не вижу того,
что я нашел, – сказал Митя.
– Потому что ты
нашел то, что видит, – ответил Дима. – Закрой
глаза и посмотри.
– Куда?
– Куда хочешь.
Митя закрыл глаза и
увидел в образовавшейся темноте – про себя он называл ее
предвечной, потому что
в детстве считал, что тонкие сияющие линии и мерцание возникают перед
веками, – ярко‑синюю точку. Она была неподвижной, но ее
можно было
странным образом направить на что угодно.
Митя услышал треск
цикады, направил синюю точку на него и вдруг вспомнил далекий вечер,
когда он
встал на ноги, – а произошло это очень рано, сразу же после
того, как он
вылупился из яйца и упал на землю с дерева, в ветке которого началось
его
существование.
Сережа не помнил своих
родителей. Он встал на ноги очень рано, сразу же после того, как
вылупился из
яйца и упал на землю с дерева, в ветке которого началось его
существование. Это
произошло на фоне удивительно красивого заката, в безветренный летний
вечер,
озвученный тихим плеском моря и многоголосым пением цикад, одной из
которых он
тоже мог когда‑нибудь стать. Но эта перспектива маячила так далеко, что
он даже
не обдумывал ее, понимая: если ему и суждено будет протрещать горловыми
пластинками свою песню, то сделает это все равно уже не он или не
совсем он,
потому что эти пластинки вырастают только у немногих, у тех, кто прошел
многолетний путь под землей и сумел в конце концов выбраться на
поверхность,
забраться на дерево и окончательно вылупиться. Отчего‑то он был уверен,
что
если это и случится с ним, то это будет тоже в летний вечер, такой же
тихий и
теплый.
Сережа вгрызся в землю,
стараясь сразу приучить себя к тому, что это всерьез и надолго. Он знал
–
шансов выбиться наружу мало и помочь ему могут только трезвость и
собранность,
только способность прокопать дальше, чем другие, а мысль о том, что
другие
понимают то же самое, придавала дополнительные силы. Но детство есть
детство, и
первые несколько лет он провел, бесцельно разглядывая попадающиеся в
земле
предметы – некоторые из них можно было вынуть и повертеть в
руках, а другие
приходилось рассматривать прямо в почве. Особенно Сережа любил находить
окна –
погрузив в землю пальцы, он осторожно ощупывал их холодную твердую
поверхность
и расчищал ее, стараясь угадать, что увидит за стеклом.
Опыт всех этих лет,
заполненных копошением в мягком российском суглинке (который однажды
утром
неожиданно оказался благодатным черноземом Украины), слился для него в
одном
обобщающем воспоминании – как он, поеживаясь от мороза, смотрит в
только что
расчищенное окно, за которым видны черные зимние сумерки вокруг ярко
освещенной
детской площадки, а в центре, в пятне света, стоит снежная баба с
воткнутым в
голову частоколом морковок, очень похожая на статую Свободы, которую он
увидел
в откопанном неподалеку от окна журнале. Стекло было разрисовано
морозом, и
узор на нем сильно напоминал маленькую пальмовую рощу; казалось, эти
пальмы
качаются от его дыхания. В окно нельзя было пролезть, и Сережа долго
стоял
возле него, тоскуя о непонятном, а потом стал рыть ход дальше, затаив в
сердце
нерасшифрованную мечту.
К тому времени, когда он
стал задумываться, все ли делает верно, его жизнь стала рутинной и
состояла
большей частью из очень похожих событий, повторяющихся в однообразной
последовательности.
Перед ним, прямо перед
головогрудью и лапами, был круг темной твердой земли. Сзади, за спиной,
оставался прорытый к этому времени тоннель, но Сережа никогда не
оглядывался и
не подсчитывал, сколько метров или даже километров им пройдено. Он
знал, что
другие насекомые – например, муравьи – довольствуются
достаточно короткой
норкой, и он со своими зубчатыми лапами мог бы выполнить работу всей их
жизни
за несколько часов. Но он никогда не тешил себя такими сравнениями,
зная: стоит
только остановиться и начать сравнивать себя с другими, как покажется,
что он
уже достаточно многого достиг, и пропадет необходимое для дальнейшей
борьбы
чувство острой обиды на жизнь.
Достигнутое им не
существовало в виде чего‑то такого, что можно было бы потрогать или
сосчитать, – оно состояло из тех встреч и событий, которые
приносил ему
каждый новый день. Проснувшись утром, он начинал рыть тоннель дальше,
разгребая
землю мощными передними лапами и отбрасывая ее задними. Через несколько
минут
среди серо‑коричневых комков почвы появлялся завтрак. Это были тонкие
отростки
корней – из них Сережа высасывал сок, читая при этом какую‑нибудь
газету,
которую он обычно откапывал вместе с едой. Через несколько сантиметров
из земли
появлялась дверь на работу – промежуток между ней и завтраком был
таким узким,
что иногда земля осыпалась сама, без всяких усилий с его стороны.
Сережа никак
не мог взять в толк, как это он роет и роет в одном направлении и все
равно
каждое утро откапывает дверь на работу, но зато понимал, что
размышления о
таких вещах еще никого не привели ни к чему хорошему, и поэтому
предпочитал
особенно на эту тему не думать.
За дверями на работу
оказывались присыпанные землей вялые сослуживцы, мимо которых следовало
двигаться
осторожно, чтобы они не поняли, что Сережа роет ход. Возможно, каждый
из них
тоже рыл свой ход куда‑то, но если это и было так, они делали это очень
скрытно. Сережа разгребал землю со своего кульмана, чуть расчищал окно,
за
которым виднелись наведенные вверх трубы, и начинал неторопливо рыть к
обеду.
Обед практически не отличался от завтрака, только земля вокруг была
немного
другая, более рыхлая, и из нее торчали медленно жующие лица товарищей
по работе
– это не раздражало, потому что их глаза были всегда закрыты.
Обед был как бы
пиком дня, после которого уже следовало начинать рыть дорогу домой, а
работа в
этом направлении всегда шла быстро. Через какое‑то время Сережа
откапывал дверь
своей квартиры, медленно разгребал глину, за которой обнаруживался
телевизор, и
часа через два, уже полусонный, докапывался до кровати.
Проснувшись, он
поворачивался к стене, некоторое время смотрел на нее, пытаясь
вспомнить только
что кончившийся сон, а затем несколькими быстрыми ударами лап пробивал
ход
прямо до ванной комнаты. Дни были в целом одинаковы, только в субботу и
воскресенье в своем движении вперед Сережа не натыкался на дверь,
ведущую на
работу. Иногда в выходные он откапывал одну или две бутылки водки, и
тогда надо
было немного покопаться в земле рядом – почти всегда удавалось
отрыть голову и
часть туловища кого‑нибудь из друзей, чтобы вместе выпить и поговорить
о жизни.
Сережа твердо знал, что большая часть его знакомых не роет никакого
тоннеля, но
тем не менее знакомые попадались ему навстречу с удручающим
однообразием.
Иногда, правда, в земле оказывались приятные сюрпризы – например,
из стены
торчала нижняя часть женского туловища (Сережа никогда не раскапывал
женщин
выше поясницы, полагая, что это приведет ко многим проблемам) или пара
банок
пива, ради которого он позволял себе небольшую передышку, но большая
часть пути
пролегала через работу.
Чтобы хоть как‑то
объяснить себе тот странный факт, что в своем выверенном по компасу
движении он
регулярно прокапывает насквозь пласты земли с совершенно одинаковыми
вкраплениями, такими, как кульманы, сослуживцы и даже вид за окном,
Сережа
пользовался аналогией с поездом, который идет вперед и бесконечно
приближается
к заветной шпале, неотличимой от соседних.
Впрочем, некоторые
различия были – иногда контора, через которую Сережа совершал
свой дневной
рывок (он образовывал это слово от «рыть»), обновлялась
– перемещались
кульманы, менялась окраска стен, кто‑нибудь появлялся или навсегда
исчезал.
Сережа отметил одну закономерность – если, например, он проползал
через работу,
где сгорал электрический чайник (сослуживцы любили пить чай), то на
всех
последующих работах, через которые он рыл свой ход, этот (или очень
похожий)
чайник тоже оказывался сгоревшим, пока Сережа не докапывался до такой
работы,
куда кто‑нибудь приносил новый.
Работа была совсем не
сложной – надо было перечерчивать старые синьки на ватман, чем,
кроме Сережи,
занимались еще несколько сослуживцев. Обычно с утра они начинали
длинный
неспешный разговор, в котором невозможно было не участвовать. Говорили
они, как
это обычно бывает, обо всем на свете, но, поскольку круг тем, которых
они
касались, был очень узок, Сережа замечал, что с каждым днем на свете
остается
все меньше и меньше того, что было прежде, например того, что было в
тот вечер,
когда он сидел под веткой и слушал треск сумевших выбиться из‑под земли
цикад.
Неизбежное общение с
сослуживцами действовало на Сережу не лучшим образом. У него стала
меняться
манера ползти – он теперь сильно прижимал голову к земле и
иногда, раскапывая
особенно крутую лестницу в буфет, помогал себе мордой. Одновременно он
стал
немного по‑новому понимать жизнь и вместо прежнего желания прорыть
тоннель как
можно дальше начал ощущать ответственность за свою судьбу, а это новое
чувство
повлекло за собой чисто анатомические изменения.
Однажды он заметил, что
сидит за столом, чистит двумя руками карандаш и одновременно роется в
ящике –
роется чем‑то таким, чего у него раньше просто не было. Сначала он
решил, что
сходит с ума, но, приглядываясь к сослуживцам, стал замечать у них по
бокам
чуть заметные полупрозрачные коричневатые лапки, которыми они ловко
пользовались. Как оказалось, такие же лапки были и у него, просто в них
раньше
не возникало потребности, но теперь Сережа научился видеть их, а потом
и
употреблять в дело. Сперва они были слабыми, но постепенно окрепли, и
Сережа
стал доверять им работу, используя руки по прямому назначению –
рыть тоннель
дальше и дальше.
Но тоннель все равно
каждый день приводил его на работу, где из рыхлых земляных стен глядели
давно
знакомые до последней черточки лица. В них присутствовала одна общая
особенность – все они были украшены усами. Сережа никогда не
придавал этому
особого значения, но все‑таки решил отпустить усы сам.
Примерно через месяц,
когда они достаточно отросли, он заметил, что жизнь стала как‑то
полнее, а
сослуживцы превратились в удивительно милых ребят с самыми
разнообразными
интересами. Понять все это ему помогли именно усы, ощупывающие движения
которых
позволяли воспринимать реальность с неизвестной раньше стороны. Он
убедился,
что жизнь можно не только видеть, но и ощупывать усами, как это делали
все
вокруг, и тогда она становится настолько захватывающей, что рыть
тоннель дальше
особо незачем. Его стали интересовать окружающие, но еще интересней
было, что о
нем думают другие. И как‑то после рабочего дня, на вечеринке с
коньячком, он
услышал:
– Наконец‑то ты,
Сережа, стал одним из нас.
Эти слова произнесло одно
лицо, чуть выступающее из земляной стены. Остальные лица закрыли глаза
и стали
шевелить усами, как бы ощупывая Сережу, чтобы проверить –
действительно ли он
один из них. Судя по их улыбкам, они оказались вполне удовлетворены
результатом.
– А кем это я
стал? – спросил Сережа.
– Брось
притворяться, – захохотали лица, – будто не
понимаешь!
– Правда, –
не
сдавался Сережа, – кем?
– Тараканом, кем
еще.
Услышав это, Сережа
ощутил холодную волну, прошедшую по всему телу. Он бросился к концу
тоннеля,
где висел календарь с портретом Николая Второго (Сережа вспомнил, что
сам
повесил его сюда, когда решил, что уже отрыл свое), и принялся
лихорадочно
откидывать землю руками под хохот и улюлюканье оставшихся сзади усатых
рож.
Откопав дверь ванной, он быстро прорыл лаз к зеркалу, посмотрел на
коричневую
треугольную головку с длинными покачивающимися усами и схватился за
бритву. Усы
с хрустом облетели, и на Сережу глянуло его собственное лицо, только
уже совсем
взрослое, с заметными морщинами у глаз. «Сколько же я был
тараканом?» – с
ужасом подумал он и вспомнил данную себе в детстве клятву обязательно
прорыть
ход на поверхность.
Откопав кровать, он упал
на холодные простыни и заснул, а утром разрыл телефон и позвонил Грише,
одному
из друзей еще с яйцеклада, с которым давно уже не общался. Некоторое
время они
вспоминали тот далекий летний вечер, когда свалились с ветки на землю и
начали
рыть ход на ее поверхность, а потом Сережа без обиняков
поинтересовался, как
жить дальше. Приятель сказал так:
– Нарой побольше
бабок, а дальше сам увидишь.
Они договорились как‑нибудь
увидеться и распрощались. Повесив трубку, Сережа без всяких колебаний
решил
изменить маршрут и воспользоваться Гришиным советом. После завтрака он
стал
рыть не вперед, а направо, и вскоре с облегчением заметил, что дверей
на работу
в земле перед ним не появилось. Вместо них попались дырявая немецкая
каска,
несколько сплющенных гильз и ксерокопия какой‑то древней мистической
книги, над
которой он провел пару часов. Сереже еще не приходилось читать такой
ахинеи –
из книги следовало, что он не просто ползет по подземному тоннелю, но
еще и
толкает перед собой навозный шар, внутри которого он на самом деле этот
тоннель
и роет. После этого грунт долгое время был совершенно пустым, только
изредка
попадались корешки, которые Сережа пускал в пищу, а потом его
вонзившаяся в
землю лапка нащупала что‑то твердое.
Разбросав желтоватую глину,
Сережа увидел черный носок милицейского сапога. Он сразу все понял,
аккуратно
присыпал его землей и стал рыть влево, подальше от этого места. Еще
несколько
раз попадались выступающие из земли детали милицейской амуниции –
дубинки,
рации, стриженые головы в фуражках, – но насчет голов ему
везло, потому
что он все время откапывал их со стороны затылка, из чего следовало,
что менты
его не видят. Через некоторое время в земле стали попадаться бабки.
Сначала это
были отдельные бумажки, а потом пошли появляться целые пачки –
обычно они
находились где‑нибудь неподалеку от милицейских дубинок и сапог. Сережа
стал
тщательно, как археолог, раскапывать землю вокруг попадавшихся ему
предметов
милицейского снаряжения и редко когда уползал без нескольких сырых и
тяжелых
пачек, крест‑накрест перехваченных бумажной лентой.
Он почти совсем забыл об
осторожности и один раз случайным движением руки отбросил землю с
круглого
милицейского лица, изо рта которого торчал свисток. Лицо яростно
посмотрело на
него и надуло щеки, но прежде чем успел раздаться свист, Сережа
выдернул
свисток и сунул милиционеру прямо в зубы денежную пачку. Лицо закрыло
глаза, и
Сережа, постепенно приходя в себя, двинулся дальше. Вскоре его пальцы
наткнулись на предмет, на ощупь показавшийся обычным милицейским
сапогом.
Расчистив землю, Сережа увидел слово «Reebok», начал рыть
вверх и скоро откопал
улыбающееся лицо Гриши.
– Вот и
встретились, – сказал Гриша.
Бабки, которые Сережа
нарыл по его совету, не произвели на Гришу никакого впечатления.
– Ты, пока не
поздно, купи на них денег, – посоветовал он и показал Сереже
несколько
зеленых банкнот. – И вообще надо отсюда рыть как можно
скорее.
Сережа и сам понимал,
что, кроме как отсюда, рыть просто неоткуда, но все же принял Гришины
слова к
сведению и накрепко запомнил, что прежде всего надо откопать какое‑то
приглашение.
По‑прежнему на его пути
регулярно оказывалась дверь домой, телевизор, ванная и кухня, но теперь
он
начал выкапывать американские журналы и учить английский, на котором
говорил с
изредка появляющимися из стен лицами. Лица дружелюбно улыбались и
обещали
помочь. И вот однажды в длинной песчаной жиле, которую Сережа
разрабатывал уже
целый месяц, он наткнулся на сложенную вчетверо белую бумажку. Это и
было, как
он понял, приглашение. Сережа не знал, что надо делать дальше, и решил
на
всякий случай держаться песчаного слоя. Несколько дней в песке не
попадалось
ничего интересного, а потом Сережа ощутил под своими лапками каменную
стену с
вывеской; расчистив ее, он прочел: «ОВИР». Дальше предметы
стали попадаться с
чудовищной быстротой – он даже не успевал как следует
разобраться, что именно
выкапывает и кому именно дает взятки; в конце концов Сережа заметил,
что
пухлого мешка бабок у него больше нет, зато есть несколько зеленых
бумажек с
портретом благообразного лысоватого толстяка.
Песчаная жила кончилась,
и рыть ход стало намного труднее, потому что почва стала каменистой;
особенно
запомнились Сереже бетонные глыбы перед американским посольством
– такой
величины, что приходилось или подкапываться под них (а это было опасно,
потому
что глыба могла упасть и раздавить), или рыть ход сбоку, сильно удлиняя
дорогу.
Посольство Сережа прополз очень быстро, откопал перила авиационного
трапа, а
потом расчистил от земли прямоугольный иллюминатор и почти целый день
любовался
облаками и океаном.
Дальше начинался слой
рыхлого и влажного краснозема, и Сережа долго глядел на стену земли, за
которой
ждала неизвестность, прежде чем решился протянуть к ней свои мозолистые
и
усталые, но еще сильные лапки. Первой находкой в слое новой почвы
оказалась
пожилая негритянка в кабинке таможенного контроля, которая брезгливо
спросила,
есть ли у Сережи обратный билет. Потом выступила автобусная дверь,
сразу за
которой Сережа откопал яблочный огрызок и мятую карту Нью‑Йорка.
Началась новая жизнь.
Долгое время Сережа выкапывал из земли в основном пустые консервные
банки,
зачерствелые ломтики пиццы и старые «Ридерз дайджесты», но
он приготовился к
упорному труду и не ждал небесной манны, тем более что с небом под
землей было
напряженно. Со временем он стал находить и деньги. Их было, конечно,
куда
меньше, чем когда‑то попадалось бабок, и встречались они далеко не
пачками, но
Сережа не унывал. Из стен тоннеля часто выступали огромные пластиковые
мешки с
мусором и черные руки, протягивающие ему то маленькие пакетики кокаина,
то
приглашения на религиозные лекции, но Сережа старался не обращать на
это
внимания, больше улыбаться и быть оптимистом.
Постепенно мусора вокруг
стало меньше, а в одно тихое утро, с трудом прокапывая ход меж корней
старой
липы, Сережа обнаружил маленькую зеленую карточку – произошло это
через день
после того, как он узнал второе главное американское слово
«у‑упс» (первое,
«бла‑бла‑бла», ему сказал по секрету еще Гриша). Он понял,
что теперь сможет
найти работу, и действительно – не прошло и пары дней, как вскоре
после
завтрака Сережа выкопал металлическое табло с горящим словом
«work»,
взволнованно сглотнул слюну и взялся за дело. Новая работа оказалась
очень
похожей на старую, только кульман был другой, наклонный, и появлявшиеся
из стен
лица сослуживцев говорили по‑английски. С энергичной улыбкой прокопав
от обеда
до табло со словами «don't work» (ему давно уже удалось
соединить в одно целое
пространство и время), он понял, что рабочий день окончен.
Теперь Сережа откапывал
указатели «work» и «don't work» каждый день, а
кроме них стал регулярно
натыкаться на одни и те же блестящие дверные ручки, ступеньки и
предметы быта
вроде кондиционера, гудение которого было вездесущим и слегка
напоминало ему
вой московской вьюги, комплекта японской электроники, сковородок и
кастрюль, из
чего сам собой напрашивался вывод, что он теперь живет в собственной
квартире.
Работа была совсем не
сложной – надо было переводить старые синьки в компьютерный код,
чем, кроме
Сережи, занимались еще несколько сослуживцев. Обычно с утра они
начинали
длинный неспешный разговор на английском, в котором Сережа постепенно
научился
участвовать. Общение с сослуживцами было для Сережи, безусловно, очень
благотворным. Его манера ползти стала более уверенной, и скоро он
заметил, что
опять пользуется полупрозрачными коричневыми лапками, о которых успел
позабыть
со времени своей прошлой работы. Он снова отпустил усы (теперь они были
с
заметной сединой), но не для того, чтобы слиться с окружающими, которые
большей
частью тоже были усатыми, а, наоборот, чтобы придать своему облику
такую же
неповторимую индивидуальность, какой обладали они все.
Прошло несколько лет,
заполненных мерцанием указателей «work» –
«don't work». За это время Сережа
успел обжиться и выкопал множество полезных предметов – машину,
огромный
телевизор и даже бачок с приспособлением для дистанционного слива воды.
Иногда
днем, оказавшись на работе, он раскапывал окно своей конторы и, не
обращая
внимания на врывающуюся оттуда духоту, выставлял наружу руку с
дистанционным
спускателем и нажимал на черную кнопку с изображением водопада. Ничего
вроде бы
не происходило, но он знал, что примерно в двух милях, там, где
расположена его
квартира, ревущий вихрь голубоватой воды накатывается на прохладные
стенки
унитаза. Правда, один раз Сережа по ошибке нажал кнопку
«reset» и потом три дня
отмывал пол, потолок и стены, но зато после скандала с низеньким
скарабеем,
назвавшимся его лендлордом, он стал относиться к квартире как к живому
существу, тем более что ее название – «Ван Бедрум»
– всегда казалось ему именем
голландского живописца.
Иногда Сережа откапывал
собачий поводок, из чего делал вывод, что гуляет с собакой. Саму собаку
он
никогда не раскапывал, но однажды по совету журнала «Health
Week» отвел ее к
ветеринару‑психоаналитику. Тот некоторое время перелаивался с невидимой
собакой
за тонким слоем земли, а потом Сережа услышал от него такое, что сразу
же
привязал поводок к торчащему из земляной стены бамперу грузовика из
другого
штата, огляделся (никого вокруг, естественно, не было) и торопливо
порыл прочь.
По выходным он дорывался
до парома на Нью‑Джерси, раскапывал небольшое окошко в здании, где
продавали
билеты, и, вспоминая детство, подолгу смотрел на далекую белую статую
Свободы,
символ равных возможностей, – последние лучи заката
окрашивали терновый
венец на ее голове в морковный цвет, и она казалась огромной пожилой
Снегурочкой.
У Сережи появилась
близкая женщина, которую он откопал целиком, чтобы изредка говорить с
ней о
сокровенном, а сокровенного к этому времени у него набралось довольно
много.
– Ты
веришь, –
спрашивал он, – что нас ждет свет в конце тоннеля?
– Это ты о том, что
будет после смерти? – спрашивала она. – Не знаю.
Я читала пару книг
на эту тему. Действительно, пишут, что там какой‑то тоннель и свет в
конце, но,
по‑моему, все это чистое бла‑бла‑бла.
Рассказав ей, что он
когда‑то чуть было не стал тараканом в далекой северной стране, Сережа
вызвал у
нее недоверчивую улыбку; она сказала, что он совершенно не похож на
выползня из
России.
– Ты по виду
типичный американский кокроуч, – сказала она.
– У‑упс, –
ответил Сережа.
Он был счастлив, что ему
удалось натурализоваться на новом месте, а слово «кокроуч»
он понял как что‑то
вроде «кокни», только на нью‑йоркский лад, – но
все же после этих слов в
его душе поселилось не совсем приятное чувство. Однажды, довольно
сильно выпив
после работы, Сережа раскопал свою квартиру, прорыл ход к зеркалу и,
взглянув в
него, вздрогнул. Оттуда на него смотрела коричневая треугольная головка
с
длинными усами, уже виденная им когда‑то давно. Сережа схватил бритву,
и, когда
мыльный водоворот унес усы в раковину, на него глянуло его собственное
лицо,
только уже совсем пожилое, даже почти старое. Он начал остервенело
копать прямо
сквозь зеркало, разлетевшееся на куски под его лапами, и вскоре отрыл
несколько
предметов, из которых следовало, что он уже на улице, – это
были сидящий
на табурете пожилой кореец (его лавка обычно начиналась в двух метрах
под
табуреткой) и табличка с надписью «29 East St.».
Окорябавшись о ржавую
консервную банку, он принялся быстро и отчаянно рыть вперед, пока не
оказался в
пласте сырых глинистых почв где‑то в районе Гринвич‑Виллидж, среди
уходящих
далеко вниз фундаментов и бетонных колодцев. Откопав вывеску с
нарисованной
пальмовой рощей и крупным словом «PARADISE», Сережа отрыл
далее за ней довольно
длинную лестницу вниз, табуретку, небольшой участок стойки и пару
стаканов с
«водка‑тоником», к которому уже успел привыкнуть.
Земляные стены только что
вырытого им тоннеля дрожали от музыки. Хватив два стакана подряд,
Сережа
огляделся по сторонам. За его спиной был длинный узкий лаз, полный
разрыхленной
земли, – он уходил в известность, из которой Сережа уже
столько лет
пытался найти выход. Впереди из земли торчали деревянная доска стойки,
покрытая
царапинами, и стаканы. Все‑таки было неясно – вылез он наконец
наружу или еще
нет? И наружу чего? Вот это было самое непонятное. Сережа взял со
стойки бледно‑зеленый
спичечный коробок с надписью «Paradise» и увидел те же
пальмы, что были на
вывеске, а еще раньше, в виде изморози, – на каком‑то окне
из детства.
Кроме пальм на коробке были телефоны, адрес и уверение, что это
«hottest place
on island».
«Господи, –
подумал
Сережа, – да разве hottest place – это рай? А не
наоборот?»
Из земляной стены перед
ним появилась рука, сгребла пустые стаканы и поставила один полный.
Стараясь
держать себя в лапках, Сережа посмотрел вверх. Земляной свод, как
обычно,
нависал в полуметре над головой, и Сережа вдруг с недоумением подумал,
что за
всю долгую и полную усилий жизнь, в течение которой он копал, наверное,
во все
возможные стороны, он так ни разу и не попробовал рыть вверх. Сережа
вонзил
лапки в потолок, и на полу стала расти горка отработанной земли. Потом
ему
пришлось подтянуть к себе табуретку и встать на нее, а еще через минуту
его
пальцы нащупали пустоту. «Конечно, – подумал
Сережа, – поверхность –
это ведь когда не надо больше рыть! А рыть не надо там, где кончается
земля!»
Снизу раздалось щелканье пальцев, и, бросив туда кошелек с небольшой
колодой кредитных
карт (на том месте, где он только что сидел, теперь неподвижно лежал
непонятно
откуда взявшийся здоровенный темно‑серый шар), Сережа схватился за край
дыры,
подтянулся и вылез наружу.
Вокруг был безветренный
летний вечер, сквозь листву деревьев просвечивали лиловые закатные
облака.
Вдали тихо шумело море, со всех сторон долетал треск цикад. Разорвав
старую
кожу, Сережа вылез из нее, поглядел вверх и увидел на дереве, которое
росло у него
над головой, ветку, с которой он свалился на землю. Сережа понял, что
это и
есть тот самый вечер, когда он начал свое длинное подземное
путешествие, потому
что никакого другого вечера просто не бывает, и еще он понял, о чем
трещат –
точнее, плачут – цикады. И он тоже затрещал своими широкими
горловыми
пластинами о том, что жизнь прошла зря, и о том, что она вообще не
может пройти
не зря, и о том, что плакать по всем этим поводам совершенно
бессмысленно.
Потом он расправил крылья и понесся в сторону лилового зарева над
далекой
горой, стараясь избавиться от ощущения, что копает крыльями воздух.
Что‑то до
сих пор было зажато у него в руке – он поднес ее к лицу, увидел
на ладони
измятый и испачканный землей коробок с черными пальмами и неожиданно
понял, что
английское слово «Paradise» обозначает место, куда попадают
после смерти.
Доедая последнюю мятую
сливу, Марина совершенно не волновалась насчет будущего – она
была уверена, что
ночью найдет все необходимое на рынке. Но, когда она решила вылезти и
посмотреть, не ночь ли на дворе, и сползла с кучи слежавшегося под ее
тяжестью
сена, она увидела, что выхода на рынок нет, и вспомнила, что Николай
заделал
его почти сразу после своего появления. Сделал он все настолько
аккуратно, что
не осталось никаких следов, и Марина даже не могла вспомнить, где этот
выход
был. Она отчаянно огляделась: из черной дыры, перед которой лежал
сплетенный
Николаем половичок, тянуло ледяным ветром, а остальные три стены были
совершенно одинаковыми – черными и сырыми. Начинать рыть ход
заново нечего было
и думать – не хватило бы сил, и Марина, бессильно зарыдав, упала
на сено. Во
французском фильме, который она стала вспоминать, возможность такого
поворота
событий не предусматривалась, и Марина совершенно не представляла, что
делать.
Наплакавшись, она
несколько успокоилась – во‑первых, ей не особенно хотелось есть,
а во‑вторых,
еще оставалось два тяжелых свертка, с которыми она вышла из театра.
Решив
перетащить их в камеру, Марина протиснулась в черную дыру и поползла по
узкому
и кривому лазу, в который намело довольно много снега. Через несколько
метров
она ощутила, что ползти ей очень трудно: бока все время цеплялись за
стены.
Ощупав себя руками, она с ужасом поняла, что за те несколько дней, что
она
пролежала на сене, приходя в себя после шока от гибели Николая, она
невероятно
растолстела; особенно раздались талия и места, где раньше росли
крылья, –
теперь там были настоящие мешки жира. В одном особенно узком участке
коридора
Марина застряла и даже решила, что теперь ей отсюда не выбраться, но
все же
после долгих усилий ей удалось доползти до выхода наружу. Баян и
свертки лежали
на том же месте, где она их и оставила, только были занесены снегом.
Подумав,
Марина решила не тащить с собой баян и взяла назад только свертки, а
баяном
изнутри подперла крышку, закрывавшую вход в нору.
Кое‑как вернувшись на
место, Марина устало поглядела на серую газетную бумагу свертков. Она
догадывалась, что найдет внутри, и поэтому не очень спешила их
разворачивать.
На бумаге крупным псевдославянским шрифтом было напечатано:
«Магаданский
муравей», а сверху был подчеркнутый девиз «За наш
магаданский муравейник!»,
набранный готическим курсивом. Ниже была фотография, но что именно на
ней
изображено, Марина не поняла из‑за корки засохшей крови, которой была
покрыта
нижняя часть свертка; единственное, что она разобрала из подзаголовков,
это что
номер воскресный и посвящен в основном вопросам культуры. Марину томило
незнакомое физическое ощущение, и, чтобы развеяться, она решила немного
почитать.
Осторожно отвернув начало листа, она увидела с другой его стороны
столбцы
текста.
Первой шла статья майора
Бугаева «Материнство». Увидев перед собой это слово, Марина
ощутила, как у нее
екнуло в груди. Со всем вниманием, на которое она была способна, она
стала
читать.
«Приходя в эту
жизнь, – писал майор, – мы не задумываемся над
тем, откуда мы взялись
и кем мы были раньше. Мы не размышляем о том, почему это
произошло, – мы
просто ползем себе по набережной, поглядывая по сторонам, и слушаем
тихий плеск
моря».
Марина вздохнула и
подумала, что майор знает жизнь.
«Но наступает
день, – стала она читать дальше, – и мы узнаем,
как устроен мир, и
понимаем, что наша первая обязанность перед природой и обществом
– дать жизнь
новым поколениям муравьев, которые продолжат начатое нами великое дело
и впишут
новые славные страницы в нашу многовековую историю. В этой связи считаю
необходимым остановиться на чувствах молодой матери. Во‑первых, ей
свойственна
глубокая и нежная забота о снесенных яйцах, которая находит выражение в
постоянном попечении. Во‑вторых, ее не оставляет легкая печаль,
являющаяся
следствием непрестанных размышлений о судьбе потомства, часто
непредсказуемой в
наше неспокойное время. И в‑третьих, ее не покидает радостная гордость
от
сознания…»
Последнее слово упиралось
в ссохшуюся коричневую корку, и Марина, хмурясь от нахлынувших на нее
незнакомых чувств, перевела взгляд на соседний столбец.
«Для коммунистической
партии Латвии я оказался чем‑то вроде Кассандры», –
прочла она и отбросила
газету.
– А ведь я
беременна, – сказала она вслух.
Первое яйцо Марина снесла
незаметно для себя, во сне. Ей снилось, что она опять стала молоденькой
самочкой и строит снеговика во дворе магаданского оперного театра.
Сначала она
слепила маленький снежок, потом стала катать его по снегу, и постепенно
он
становился все больше и больше, но почему‑то был не круглым, а сильно
вытянутым, и как Марина ни старалась, она не могла придать ему круглую
форму.
Когда она проснулась, она
увидела, что во сне сбросила с себя штору и, разметавшись, лежит на
сене, а на
полу возле постели – в том месте, где раньше стояли сапоги
Николая, –
белеет предмет, точь‑в‑точь повторяющий странный снежный ком из ее сна.
Марина
пошевелилась, и на пол скатилось еще одно яйцо. Она испуганно вскочила,
и ее
тело начало содрогаться в неудержимых, но практически безболезненных
спазмах.
На пол упало еще несколько яиц. Они были одинаковые, белые и холодные,
покрытые
мутной упругой кожурой, а по форме напоминали дыни средних размеров;
всего их
было семь.
«Что ж теперь делать?»
–
озабоченно подумала Марина, и тут же ей стало ясно, что надо было
первым делом
вырыть для яиц нишу.
Привычно откидывая совком
землю, Марина прислушивалась к своим чувствам и с недоумением замечала,
что
совсем не испытывает радости материнства, так подробно описанной
майором
Бугаевым. Единственными ее ощущениями были озабоченность, что ниша
выйдет
слишком холодной, и легкое отвращение к снесенным яйцам.
Видно, роды отобрали у
нее слишком много сил, и, закончив работу, она ощутила усталость и
голод. Есть
можно было только то, что было в свертке, и Марина решилась.
– Я ведь это не для
себя, – сказала она, обращаясь к кубу темного пространства,
в центре
которого она сидела на четвереньках. – Я для детей.
В первом свертке
оказалась ляжка Николая в заскорузлой от крови зеленой военной штанине.
Своими
острыми жвалами Марина распорола штанину вдоль красного лампаса и
стянула ее
как колбасную шкурку. На ляжке у Николая оказалась татуировка –
веселые красные
муравьи с картами в лапках сидели за столом, на котором стояла бутылка
с
длинным узким горлышком. Марина подумала, что ничего, в сущности, не
успела
узнать про своего мужа, и откусила от ляжки небольшой кусок.
На вкус Николай оказался
таким же меланхолично‑основательным, каким был и при жизни, и Марина
заплакала.
Она вспомнила его сильные и упругие передние лапки, поросшие редкой
рыжей
щетиной, и их прикосновения к ее телу, раньше вызывавшие только скуку и
недоумение, теперь показались ей исполненными тепла и нежности. Чтобы
прогнать
тоску, Марина стала читать клочки газеты, лежавшие перед ней на полу.
«Для негодования уже не
остается сил, – писал неизвестный автор, – можно
только поражаться
бесстыдству масонов из печально знаменитой ложи П‑4 (
„психоанализ‑четыре“),
уже много десятилетий измывающихся над международной общественностью и
простерших свою изуверскую наглость до того, что в центре мировой
научной
полемики благодаря их усилиям оказались два самых гнусных ругательства
древнекоптского языка, которым масоны пользуются для оплевывания чужих
национальных
святынь. Речь в данном случае идет о выражениях „sigmund
freud“ и „eric bern“,
в переводе означающих, соответственно, „вонючий козел“ и
„эректированный волчий
пенис“. Когда же магаданская наука, последняя из нордических
наук, стряхнет с
себя многолетнее оцепенение и распрямит свою могучую спину?»
Марина не понимала, о чем
идет речь, но догадывалась, что за газетным обрывком стоит неведомый ей
мир
науки и искусства, который она мимоходом видела на старом расписном
щите возле
моря: мир, населенный улыбающимися широкоплечими мужчинами с
логарифмическими
линейками и книгами в руках, детьми, мечтательно глядящими в неведомую
взрослым
даль, и небывалой красоты женщинами, замершими у весенних роялей и
кульманов в
тревожном ожидании счастья. Марине стало горько от того, что она
никогда уже не
попадет на этот фанерный щит, но это еще могло произойти с ее детьми, и
она
ощутила беспокойство за лежащие в нише яйца. Она подползла к ним
поближе и
стала внимательно их изучать.
Мутная пелена на их
поверхности успела рассосаться, и стали видны зародыши. Они совершенно
не
походили на муравьев и скорее напоминали толстых червяков, но следы их
будущего
строения были уже различимы. Пять из них были бесполыми рабочими
насекомыми, а
шестой и седьмой имели крылышки, и Марина с радостным испугом увидела,
что один
из них – мальчик, а другой – девочка. Она вернулась к
кровати, надергала сена и
тщательно обложила им яйца, потом накрыла их снятой с себя шторой и
зарылась в
остатки сена. Оно неприятно кололо голое тело, но Марина старалась не
обращать
внимания на это неудобство. Некоторое время она с нежностью глядела на
получившееся гнездышко, а потом ее глаза закрылись и ей начала сниться
магаданская наука, распрямляющая спину под черным небом Ледовитого
океана.
На следующее утро она
заметила, что хоть уже долгое время ничего не ела, но растолстела до
такой
степени, что не только потеряла возможность вылезти в коридор, но и в
самой
камере помещается лишь потому, что лежит по диагонали, головой к кладке
яиц. Ей
трудно было представить, что раньше она протискивалась в крохотный
квадратный
лаз, отверстие которого чернело на стене. Из‑за складок жира на шее она
даже не
могла толком повернуть голову, чтобы посмотреть, какой она стала, но
чувствовала, что там, за шеей, течет по своим законам жизнь большого
самодостаточного тела, которое уже не совсем Марина – Мариной
оставались только
голова с немногими мыслями и пара еще подчиняющихся этой голове лапок
(остальные были намертво придавлены брюхом к полу). В теле бродили
соки, в его
недрах раздавались странные завораживающие звуки, и оно, совершенно не
спрашивая у Марины ни разрешения, ни совета, иногда начинало медленно
сокращаться или переваливалось с боку на бок. Марина думала, что дело
тут в
генах: за все время с тех пор, как она стала матерью, она съела только
ляжку
Николая, и то не потому, что сильно хотелось есть, а чтобы та не
испортилась.
Шли дни. Но однажды она
проснулась с чувством голода, который не походил ни на что из
испытанного ею
раньше: сейчас голодна была не худенькая девушка из прошлого, а
огромная масса
живых клеток, каждая из которых пищала тоненьким голосом о том, как ей
хочется
есть. Решившись, Марина подтянула к себе оставшийся сверток, развернула
его и
увидела бутылку шампанского. Сначала она обрадовалась, потому что так и
не
попробовала шампанского в театре и часто думала, какое оно на вкус, но
потом
поняла, что осталась совсем без еды. Тогда она протянула лапки к яичной
кладке,
выбрала яйцо, в котором медленно дозревал бесполый рабочий муравей,
подтянула
его и, не давая себе опомниться, вонзила жвалы в хрустнувшую
полупрозрачную
оболочку. Яйцо оказалось вкусным и очень сытным, и Марина, до того как
пришла в
себя и вновь обрела контроль над своими действиями, съела целых три.
«Ну и что, –
подумала она, чувствуя, как к горлу подступает сытая
отрыжка, – пусть хоть
кто‑то останется. А то все вместе…»
Сильно захотелось
шампанского, и Марина стала открывать бутылку. Шампанское хлопнуло, и
не меньше
трети содержимого белой пеной выплеснулось на пол. Марина расстроилась,
но
потом вспомнила, что точно так же было в фильме, и успокоилась.
Шампанское ей
не очень понравилось, потому что в рот из бутылки попадала только
пузырящаяся
пена, которую трудно было глотать, но все же она допила его до конца,
отбросила
пустую бутылку в угол и стала изучать газету, в которую та была
упакована. Это
тоже был номер «Магаданского муравья», но не такой
интересный, как прошлый.
Почти весь его объем занимал репортаж с магаданской конференции
сексуальных
меньшинств; это ей было скучно читать, но зато на большой групповой
фотографии
она нашла автора статьи о материнстве майора Бугаева – он был,
как следовало из
подписи, пятый сверху.
Отложив газету, Марина
прислушалась к ощущениям от собственного тела. Не верилось, что все это
толстое
и огромное и есть она. Или, наоборот, этому огромному и толстому уже не
верилось, что оно – это Марина.
«А вот начну с
завтрашнего дня спортом заниматься, – чувствуя, как из
живота медленно
поднимается пузырящаяся надежда, подумала Марина, – похудею,
опять пророю
ход на юг, к морю… И найду того генерала, который Николая
хвалил. Он на мне
женится, и…»
Дальше Марина боялась
даже думать. Но она ощутила, что она еще молода, полна сил и, если не
сдаваться
обстоятельствам, вполне можно начать все сначала. Потом она задремала и
спала
очень долго, без сновидений.
Разбудили ее чавкающие
звуки. Марина открыла глаза и обомлела. Из угла на нее смотрели два
больших,
ничего не выражающих глаза. Сразу под глазами были острые сильные
челюсти,
которые быстро что‑то перетирали, а ниже располагалось небольшое
червеобразное
тельце белого цвета, покрытое короткими и упругими чешуйками.
– Ты кто? –
испуганно спросила Марина.
– Я твоя дочь
Наташа, – ответило существо.
– А что это ты
ешь? – спросила Марина.
– Яйца, –
невинно прошамкала Наташа.
– А…
Марина поглядела на нишу
с яйцами, увидела, что та совершенно пуста, и подняла полные укора
глаза на
Наташу.
– А что делать,
мам, – сквозь набитый рот ответила та, – жизнь
такая. Если б Андрюшка
быстрее вылупился, он бы сам меня слопал.
– Какой Андрюшка?
– Братишка, –
ответила Наташа. – Он мне говорит, значит, давай маму
разбудим. Прямо из
яйца еще говорит. Я тогда говорю – а ты, если б первый кожуру
прорвал, стал бы
маму будить? Он молчит. Ну, я и…
– Ой, Наташа, ну
разве так можно, – прошептала Марина, покачивая головой и
разглядывая
Наташу. Она уже не думала о яйцах – все остальные чувства
отступили перед
удивлением, что это странное существо, запросто двигающееся и
разговаривающее, – ее родная дочь. Марина вспомнила фанерный
щит у
видеобара, изображавший недостижимо прекрасную жизнь, и попыталась в
своем
воображении поместить на него Наташу. Наташа молча на нее глядела,
потом
спросила:
– Ты чего, мам?
– Так, –
сказала Марина. – Знаешь что, Наташа, сползай‑ка в коридор.
Там баян
стоит. Принеси его сюда, только осторожней, смотри, чтобы крышка вниз
не упала.
Снегу наметет.
Через несколько минут
Наташа вернулась с источающей холод черной коробкой.
– Теперь послушай,
Наташа, – сказала Марина. – У меня была тяжелая и
страшная судьба. У
твоего покойного папы – тоже. И я хочу, чтобы с тобой все было
иначе. А жизнь –
очень непростая вещь.
Марина задумалась,
пытаясь в несколько слов сжать весь свой горький опыт, все посещавшие
ее
долгими магаданскими ночами мысли, чтобы передать Наташе главный итог
своих
раздумий.
– Жизнь, –
сказала она, отчетливо вспомнив торжествующую улыбку на лице завернутой
в
лимонную штору сраной уродины, – это борьба. В этой борьбе
побеждает
сильнейший. И я хочу, Наташа, чтобы победила ты. С сегодняшнего дня ты
будешь
учиться играть на баяне твоего отца.
– Зачем? –
спросила Наташа.
– Ты станешь
работником искусства, – объяснила Марина, кивая на черную
дыру в
стене, – и пойдешь работать в Магаданский военный оперный
театр. Это
прекрасная жизнь, чистая и радостная (Марина вспомнила генерала со
сточенными
жвалами и парализованными мышцами лица), полная встреч с самыми
удивительными
людьми. Хочешь ты так жить? Поехать во Францию?
– Да, – тихо
ответила Наташа.
– Ну вот, –
сказала Марина, – тогда начнем прямо сейчас.
Успехи Наташи были
удивительными. За несколько дней она так здорово выучилась играть, что
Марина
про себя решила – все дело в отцовской наследственности.
Единственной нотной
записью, которую они с Наташей нашли в «Магаданском
муравье», оказалась музыка
песни «Стража на Зее», приведенная там в качестве примера
истинно магаданского
искусства. Наташа стала играть сразу же, прямо с листа, и Марина
потрясенно
вслушивалась в рев морских волн и завывание ветра, которые сливались в
гимн
непреклонной воле одолевшего все это муравья, и размышляла о том, какая
судьба
ждет ее дочь.
– Вот такие
песни, – шептала она, глядя на быстро скачущие по клавишам
пальцы Наташи.
Как‑то Марина подумала о
мелодии из французского фильма и напела дочке то, что смогла. Наташа
сразу же
подхватила мотив, сыграла его несколько раз, а потом поразмышляла и
сыграла его
несколько иначе, и Марина вспомнила, что именно так в фильме и было.
После
этого она окончательно поверила в свою дочь, и когда Наташа засыпала
рядом,
Марина заботливо накрывала шторой беззащитную белую колбаску ее тельца,
словно
Наташа была еще яйцом.
Иногда по вечерам они
начинали мечтать, как Наташа станет известной артисткой и Марина придет
к ней
на концерт, сядет в первый ряд и даст наконец волю гордым материнским
слезам.
Наташа очень любила играть в такие концерты – она садилась перед
матерью на фанерную
коробку, прижимала баян к груди и исполняла то «Стражу на
Зее», то
«Подмосковные вечера»; Марина в самый неожиданный момент
прерывала ее игру
тоненьким криком «браво» и начинала истово бить друг о
друга двумя последними
действующими лапками. Тогда Наташа вставала и кланялась; выходило это у
нее
так, словно всю свою жизнь перед этим она ничего другого не делала, и
Марине
оставалось только клоком сена размазывать по лицу сладкие слезы. Она
чувствовала, что живет уже не сама, а через Наташу, и все, что ей
теперь нужно
от жизни, – это счастья для дочери.
Но шли дни, и Марина
стала замечать в дочери странную вялость. Иногда Наташа замирала, баян
в ее
руках смолкал, и она надолго уставлялась в стену.
– Что с тобой,
девочка? – спрашивала Марина.
– Ничего, –
отвечала
Наташа и принималась играть вновь.
Иногда она бросала баян и
уползала в ту часть камеры, которую Марина не могла видеть, и не
отвечала на
вопросы, занимаясь там непонятным. Иногда к ней приходили друзья и
подруги, но
Марина не видела их, а слышала только молодые самоуверенные голоса.
Однажды
Наташа спросила ее:
– Мама, а кто лучше
живет – муравьи или мухи?
– Мухи‑то
лучше, – ответила Марина, – но до поры до времени.
– А после поры да
времени?
– Ну как тебе
сказать, – задумалась Марина. – Жизнь у них,
конечно, неплохая, но
очень неосновательная и, главное, без всякой уверенности в будущем.
– А у тебя она есть?
– У меня? Конечно.
Куда я отсюда денусь.
Наташа задумалась.
– А в моем будущем у
тебя уверенность есть? – спросила она.
– Есть, –
ответила Марина, – не волнуйся, милая.
– А ты можешь так
сделать, чтобы ее у тебя больше не было?
– Что? – не
поняла Марина.
– Ну, можешь ты так
сделать, чтобы не быть насчет меня ни в чем уверенной?
– А почему ты этого
хочешь?
– Почему, почему. Да
потому что, пока у тебя будет уверенность в моем будущем, я отсюда тоже
никуда
не денусь.
– Ах ты дрянь
неблагодарная, – рассердилась Марина. – Я тебе
все отдала, всю жизнь
тебе посвятила, а ты…
Она замахнулась на
Наташу, но та быстро уползла в угол камеры, где Марина не могла ее даже
видеть.
– Наташа, –
через некоторое время позвала Марина, – слышишь, Наташа!
Но Наташа не отвечала.
Марина решила, что дочь обиделась на нее, и решила больше ее не
трогать.
Опустив голову, она задремала. Утром на следующий день она очень
удивилась, не
нащупав рядом маленького упругого Наташиного тельца.
– Наташа! –
позвала она.
Никто не отозвался.
– Наташа! –
повторила Марина и беспокойно заерзала на месте.
Наташа не отзывалась, и
Марина испытала самую настоящую панику. Она попробовала повернуться, но
огромное жирное тело совершенно ей не подчинялось. У Марины мелькнула
мысль,
что оно, может быть, еще в состоянии двигаться, но просто не понимает,
чего
Марина от него хочет, или не в состоянии расшифровать сигналы, идущие
от мозга
к его мышцам. Марина сделала колоссальное волевое усилие, но
единственным
ответом тела было раздавшееся в его недрах тихое урчание. Марина
попыталась еще
раз, и ее голова немного повернулась вбок. Стал виден другой угол
камеры, и
Марина, изо всех сил выворачивая глаз, рассмотрела висящий под потолком
небольшой серебристый кокон, состоящий, как ей показалось, из множества
рядов
тонких шелковых нитей.
– Наташа, –
опять позвала она.
– Ну что,
мам? – долетел из кокона тихий‑тихий голос.
– Ты что
это? –
спросила Марина.
– Известно
что, – ответила Наташа. – Окуклилась. Пора уже.
– Окуклилась? –
переспросила Марина и заплакала. – Что ж ты меня не позвала?
Совсем уже
взрослая стала, выходит?
– Выходит
так, – ответила Наташа. – Своим умом теперь жить
буду.
– И что ты делать
хочешь, когда вылупишься? – спросила Марина.
– А в мухи
пойду, – ответила Наташа из‑под потолка.
– Шутишь?
– И ничего не шучу.
Не хочу так, как ты, жить, понятно?
– Наташенька, –
запричитала Марина, – цветик! Опомнись! В нашей семье такого
позора отроду
не было!
– Значит,
будет, – спокойно ответила Наташа.
На следующее утро Марина
проснулась от скрипа. Висящий под потолком кокон слегка покачивался, и
Марина
поняла, что Наташа готова вылупиться.
– Наташа, –
стараясь говорить спокойно, начала Марина, – пойми. Чтобы
пробиться к
свободе и солнечному свету, надо всю жизнь старательно работать. Иначе
это
просто невозможно. То, что ты собираешься сделать, – это
прямая дорога на
дно жизни, откуда уже нет спасенья. Понимаешь?
Кокон треснул по всей
длине, и из появившегося в его верхней части отверстия высунулась
голова – это
была Наташа, но совсем не та девочка, с которой Марина долгими вечерами
играла
в магаданские концерты.
– А мы, по‑твоему,
где живем? На потолке, что ли? – грубо отозвалась она.
– Смотри, – с
угрозой сказала Марина, еле удерживая взгляд на коконе, –
вернешься вся
ободранная, яиц в подоле принесешь – на порог тебя не пущу.
– Ну и не
надо, – отвечала Наташа.
Она уже разорвала стенку
кокона, и вместо скромного муравьиного тельца с четырьмя длинными
крыльями
Марина увидела типичную молодую муху в блядском коротеньком платьице
зеленого
цвета с металлическими блестками. Наташа была, конечно, красива –
но совсем не
целомудренной и быстрорастворимой красотой муравьиной самки. Она
выглядела
крайне вульгарно, но в этой вульгарности было нечто завораживающее и
притягательное, и Марина поняла, что мордастый мужчина из французского
фильма,
случись ему выбирать между Мариной, какой она была в молодости, и
Наташей,
выбрал бы, несомненно, Наташу.
– Проститутка! –
выпалила Марина, чувствуя, как к оскорбленным родительским чувствам
примешивается женская ревность.
– Сама
проститутка, – не оборачиваясь, отозвалась Наташа, занятая
своей
прической.
– Ты… Ах
ты… –
зашипела Марина. – На мать… Прочь из моего дома!
Слышишь, прочь!
– Сейчас сама
уйду, – сказала, заканчивая туалет, Наташа. –
Больно надо.
– Немедленно! –
закричала Марина. – Какими словами на мать! Прочь отсюда!
– И баян мне твой
надоел, старая дура, – бросила Наташа. – Сама на
нем играй, пока не
подохнешь.
Марина уронила голову на
сено и в голос зарыдала. Она ожидала, что через несколько минут Наташа
опомнится и приползет извиняться, и даже решила не извинять ее сразу, а
некоторое время помучить, но вдруг услышала звяканье врезающегося в
землю
совка.
– Наташа, –
закричала она, чудовищным усилием поворачивая голову, – что
ты делаешь!
– Ничего, –
ответила Наташа, – наружу выбираюсь.
– Так вон ведь
выход! Ты что, хочешь все разрушить, что мы с отцом построили?
Наташа не ответила – она
продолжала сосредоточенно копать и, какие бы материнские проклятия ни
обрушивала на ее голову Марина, даже не оборачивалась. Тогда Марина,
как могла,
приблизила голову к черной дыре в стене и завопила:
– Помогите! Люди
добрые! Милиция!
Но ответом ей было только
далекое завывание ледяного ветра.
– Спасите! –
опять заорала Марина.
– Да чего ты
орешь, – тихо сказала из‑под потолка Наташа, –
во‑первых, добрых
людей там нет, а во‑вторых, все равно никто не услышит.
Марина поняла, что дочь
права, и впала в оцепенение. Под потолком мерно позвякивал совок, так
продолжалось час или два, а потом в камеру упал солнечный луч и
ворвался полный
забытых запахов свежий воздух; Марина вдохнула его и неожиданно поняла,
что тот
мир, который она считала навсегда ушедшим в прошлое вместе с
собственной
юностью, на самом деле совсем рядом и там началась осень, но еще долго
будет
тепло и сухо.
– Пока,
мама, –
сказала Наташа.
«Улетает», –
поняла
наконец Марина и закричала:
– Наташа! Сумку хоть
возьми!
– Спасибо! –
крикнула сверху Наташа. – Я взяла!
Она чем‑то прикрыла
прорытую наверх дыру, и в камере опять стало темно и холодно, но тех
нескольких
секунд, пока светило солнце, хватило Марине, чтобы вспомнить, как все
было на
самом деле в тот далекий полдень, когда она шла по набережной и жизнь
тысячью
тихих голосов, доносящихся от моря, из шуршащей листвы, с неба и из‑за
горизонта, обещала ей что‑то чудесное.
Марина поглядела на
стопку газет и с грустью поняла, что это все, что у нее
осталось, –
точнее, все, что осталось для нее у жизни. Ее обида на дочь прошла, и
единственное, чего она хотела, – это чтобы Наташе повезло на
набережной
больше, чем ей. Марина знала, что дочь еще вернется, но знала и то, что
теперь,
как бы близко к ней ни оказалась Наташа, между ними всегда будет
тонкая, но
непрозрачная стена – словно то пространство, где они когда‑то
играли в
магаданские концерты, вдруг разделила доходящая до потолка комнаты
глухая
желтая ширма.
– …избавиться от
ощущения, – говорил Митя, стоя с закрытыми глазами в центре
площадки под
шестом маяка, – что он копает крыльями пустоту, и из
последних сил
удерживая себя от догадки, что всю предшествовавшую жизнь он занимался
именно
этим. Пока вместе с сотнями других цикад он летел к далекой горе,
второй раз в
жизни видя мир таким, как он есть, вокруг стемнело и ему стало
казаться, что он
потерял дорогу – хотя куда именно он летит, он твердо не
знал, – но тут он
вспомнил, что стоит между черными кустами терновника и торчащими из
земли
выветренными скалами причудливой формы, которые с того места, где он
находился,
казались просто участками неба без звезд…
Он несколько раз моргнул
и слегка надавил на веки пальцами. За ними разлилось слабое голубоватое
сияние,
но яркой точки, которая сияла там несколько минут назад, уже не было.
– Все. Больше ничего
не вижу, – сказал он. – И сколько все это
продолжалось?
Дима пожал плечами.
– Хотя да, –
сказал Митя. – Понятно.
– Цикады – наши
близкие родственники, – сказал Дима. – Но они
живут в совершенно
другом мире. Я бы сказал, что это подземные мотыльки. Там все так же,
как у
нас, но совсем нет света. Поэтому, когда они решают, куда им лететь, им
приходится верить остальным на слово.
Он повернулся и пошел
вверх по тропинке. Митя пошел следом, и через минуту или две они вышли
на плоскую
площадку между скалами, один край которой обрывался в пустоту. Отсюда
было
видно море с широкой лунной дорогой – даже не дорогой, а целой
взлетно‑посадочной
полосой – и еще было видно дрожащее сияние на берегу.
– Странно, –
сказал Митя. – Как будто все то, к чему мы с таким трудом
пытаемся всю
жизнь вернуться, на самом деле никуда и не исчезало. Как будто кто‑то
завязывает нам глаза, и мы перестаем это видеть.
– Хочешь узнать,
кто?
– Хочу, –
сказал Митя.
– Это хорошо, что ты
хочешь, – сказал Дима, – потому что в любом
случае придется.
Митя вздрогнул.
– Что значит
придется?
– Видишь
ли, –
сказал Дима, – своими недавними действиями ты растревожил
одно очень
могущественное существо. Ему все это ужасно не понравилось. И сейчас
оно явится
за тобой.
– А какое ему до
меня дело? – спросил Митя.
– Оно считает, что
ты находишься в его полной власти. Принадлежишь ему. А то, что ты
пытаешься
делать, этой власти угрожает. И это существо нападет на тебя с минуты
на
минуту.
– Кто это?
– Труп, –
сказал Дима как нечто само собой разумеющееся.
– Чей труп?
– Твой, –
сказал Дима, – чей же еще.
– Ты хочешь сказать,
что я умру?
– В каком‑то
смысле, – ответил Дима. – Когда я говорю
«труп», я имею в виду, что
тебя ждет тот, кто сейчас живет вместо тебя. На мой взгляд, самое
худшее, что с
тобой может произойти, это то, что он и дальше будет жить вместо тебя.
А если
умрет он, вместо него будешь жить ты.
– Кто это живет
вместо меня? – спросил Митя. – И как труп может
умереть?
– Хорошо, –
сказал Дима, – не живет, а мертвеет. Это все слова. Не
важно. Все равно
бесполезно говорить. Иди и сам все увидишь.
– А ты? –
спросил Митя.
– С ним можешь
встретиться только ты сам, – сказал Дима. – И
все, что случится
дальше, тоже зависит только от тебя.
– Опять в кусты
идти? – спросил Митя. – Сколько можно.
– Я не знаю, где он
тебя найдет. Но он уже здесь. Совсем рядом.
– Где? –
испуганно спросил Митя.
Дима засмеялся и не
ответил. Он подошел к краю площадки, почти к самому обрыву в море, и
отвернулся, словно не желая иметь никакого отношения к тому, что
происходит за
его спиной.
Митя огляделся по
сторонам. Вокруг были скалы самых разных форм; на некоторых из них
росли пучки
травы, которую шевелил ветер, из‑за чего казалось, что шевелятся сами
камни.
Застывшая фигура Димы казалась со спины темным каменным выступом,
словно он
превратился в одну из скал.
Больше на площадке ничего
не было. Митя подошел к началу тропинки, по которой они только что
прошли, и,
цепляясь за кусты и камни, стал спускаться вниз. Прошлый раз он шел за
Димой и
даже не заметил, насколько трудно здесь идти, – словно тогда
вокруг было
светлее. Теперь, когда Луну закрыл каменный гребень, приходилось
нашаривать
ногой следующий камень и ощупью находить ветки, чтобы схватиться за
них. Через
несколько метров Мите показалось, что он завис в темной пустоте,
держась за
несколько непонятно откуда взявшихся в ней каменных выступов, и нет
никакой
гарантии, что впереди окажется хоть какая‑то опора. Он замер на месте.
«А куда я иду? –
подумал он. – И зачем?»
Он закрыл глаза и
попытался прислушаться к своим ощущениям и мыслям, но их не было. Было
просто
темно, прохладно и тихо. Можно было продолжить спуск вниз, а можно было
вернуться на площадку, где остался Дима; казалось, что между этими
двумя
действиями нет никакой разницы.
Митя попытался сделать
еще один шаг, и из‑под его подошвы вывернулся камень – он чуть не
покатился
вслед за этим камнем, но в последний момент успел схватиться за
усеянную шипами
ветку, которая глубоко расцарапала ему кожу на ладони. Камень несколько
раз
стукнулся о скалы, с шорохом врезался в листву, и опять стало тихо.
«Что же со мной
происходит? – подумал Митя, облизывая кровоточащую
ладонь. – Как это
оказалось, что я стою в полной темноте, в непонятном месте, и дожидаюсь
собственного трупа? Это что, я к свету летел, а прилетел вот сюда? Ведь
я же
совсем другого искал. Может, я и сам не знаю, чего, но никак не этого,
точно».
Подул ветер, и внизу
зашуршали невидимые листья.
«Сейчас пойду и скажу
ему, что с меня хватит… Кто он такой вообще и откуда он взялся?
С другой стороны,
конечно, бессмысленный вопрос… Оттуда же, откуда и я. И говорит
он тоже
правильно. Но ведь я это и без него всегда знал. И еще много другого
знал,
кстати… Куда только это делось…»
Митя попытался вспомнить
это другое, и перед ним, почти как в колодце, промелькнуло несколько
отрывистых
картин, вместе похожих на фильм, склеенный из разных слайдов.
Оказалось, что
лучшее связано с очень простым, таким, о чем никому и не расскажешь.
Это были
моменты, когда жизнь неожиданно приобретала смысл и становилось ясно,
что она
на самом деле никогда его не теряла, а терял его сам Митя. Но причина
того, что
этот смысл становился виден опять, была непонятна, а картинки на
сменяющихся в
его памяти слайдах были самыми обычными – например, проходящие по
ночному
потолку полосы света, похожие на лучи зенитных прожекторов, которые
никак не
могут поймать люстру, или вид из поезда на длинное вечернее небо,
уходящее в
просеку за пыльным окном, или несколько неотшлифованных бутылочных
изумрудов на
ладони. Но странное и невыразимое знание, связанное со всем этим, давно
исчезло, а то, что осталось в памяти, было больше всего похоже на
сохранившиеся
фантики от конфет, съеденных каким‑то существом, уже давно живущим в
нем,
постоянно и незаметно присутствующим в любой мысли (кажется, среди
мыслей оно и
жило), но все время прячущимся от прямого взгляда.
А сейчас, сразу же понял
Митя, это существо, незаметно жевавшее его почти всю жизнь и сожравшее
его
почти целиком, просто не успело отпрыгнуть. Это и был труп.
Но с ним ничего нельзя
было сделать – разве что подобрать камень побольше и ударить
самого себя по
голове.
Митя еще раз ощупал ногой
темную пустоту внизу, повернулся и стал карабкаться назад. Лезть вверх
было
проще, и через минуту он уже был на ярко освещенной лунным светом
площадке.
Дима стоял там же, в той
же позе и так же неподвижно, и Митя с раздражением подумал, что в его
поведении, пожалуй, слишком много пафоса.
– Я все
понял, – сказал он. – Понял, о чем ты говорил. Эй.
Он похлопал Диму по
плечу, и тот медленно обернулся.
Это был не Дима.
Это было то самое
существо, мысль о существовании которого за минуту перед этим мелькнула
в
Митином сознании. Ошибиться было невозможно, хотя Митя не мог сказать,
откуда у
него возникла эта уверенность. Но в тот же момент, когда он увидел
перед собой
собственное лицо, только синее и усталое, он вспомнил место из старой
японской
книги, где человеку снится кошмар, в котором он бежит вдоль берега моря
от
самого себя, вставшего из гроба. С ним сейчас происходило то же самое,
только
не было гроба, берег моря находился далеко внизу, и просыпаться было
некуда.
Митя попятился, и труп
шагнул за ним. Митя кинулся к ведущей вниз тропинке, но, представив
себе, как
он снова повиснет на ветках, затормозил, чуть помешкал, решая, куда
бежать, и
почувствовал, как за левое плечо его схватила собственная ладонь.
Труп медленно и немного
карикатурно, в духе гигиеничных американских ужасов, поднял руки,
схватил Митю
за горло, и Митя почувствовал, что тоже кого‑то душит. Он изо всех сил
сжал
пальцы и понял, что еще секунда – и он задохнется. Тогда он чуть
ослабил хватку
и почувствовал, что может сделать вдох. Он убрал руки, и одновременно
разжались
пальцы на его горле.
«Понятно», –
подумал
Митя, повернулся, поднял ногу, чтобы шагнуть, и почувствовал, что его
за левое
плечо опять схватила собственная ладонь. Он испытал мгновенный приступ
ярости,
лягнул труп ногой и, придя в себя, обнаружил, что стоит на
четвереньках. Он
встал, со свистом втягивая воздух в непослушные легкие. Это было тяжело
не
только потому, что от удара перехватило дыхание, а еще и потому, что
пальцы
трупа опять с тупым усердием сомкнулись на его шее, и чтобы сделать
вдох, ему
пришлось ослабить собственную хватку на холодном синем горле. Митя
сделал еще
одну попытку отцепиться от трупа, но хоть его движения были быстрыми и
сильными, а труп двигался крайне медленно и вяло, это не удалось.
– Ну что? Долго так
стоять будем? – спросил Митя.
Труп не отвечал.
Приглядевшись, Митя заметил, что его веки чуть приоткрыты и он словно
бы
смотрит вниз. Труп тихо‑тихо дышал и, как почему‑то показалось Мите,
пытался о
чем‑то вспомнить.
– Эй, ты! –
позвал Митя.
– Сейчас, –
сказал труп и опять тихо задышал.
«А может, –
мелькнула у Мити мысль, – просто его задушить надо? А самому
потерпеть
чуть‑чуть».
Он стал осторожно вдыхать,
чтобы набрать в легкие достаточно воздуха, но почувствовал, что пальцы
трупа
сдавили его горло и с каждой секундой их нажим становится сильнее. Митя
попытался отодрать холодные пальцы от своего горла, но это не помогло
– труп,
кажется, решил задушить его первым. Митя всерьез испугался, и пальцы
трупа на
его горле тут же оторопело разжались.
«Нет, – подумал
Митя, – так не выйдет. А может, перекрестить его? На всякий
случай? Хуже
ведь не будет».
Вдруг труп высвободил
одну руку, торопливо перекрестил Митю и опять схватил его за горло.
«Не
помогает», –
подумал Митя и только тут наконец понял, что все то, что он думает,
думает не
он, а труп.
– Эй, –
раздался сверху Димин голос, – ты еще долго с ним обниматься
будешь?
Митя поднял глаза. Дима,
свесив ноги, сидел на высоком камне в нескольких метрах справа и глядел
на вяло
текущую внизу схватку.
– Дай ему по
яйцам, – посоветовал он. – А потом, когда
согнется, – замком по
шее.
– Что с ним
делать? – просипел Митя.
– Не знаю, –
ответил Дима. – Это ведь не мой труп, а твой. Делай что
хочешь. Все в
твоих руках.
Несколько минут Митя
стоял напротив трупа, глядя ему в лицо. Ничего ужасного в этом лице не
было –
оно было спокойным, усталым и грустным, как будто труп держался руками
не за
его горло, а за поручень вагона метро, в котором возвращался домой с
давно
обрыдлой работы.
– Если бы это, не
дай бог, происходило со мной, – наконец сказал Дима со
своего
камня, – я бы перво‑наперво как следует рассмотрел, кто
передо мной стоит.
Митя еще раз поглядел на
усталое лицо трупа и заметил на нем почти неуловимую гримасу легкой
грусти и
обиды, тень какой‑то несбывшейся мечты. И вместо отвращения и страха он
испытал
к своему трупу искреннюю жалость, а как только это случилось, холодные
пальцы
опять сжали его горло. Но на этот раз Митя ясно чувствовал, что его
душит
внешняя сила, и никак не мог ослабить хватку на своем горле. Он изо
всех сил
пнул ногой голень трупа и только ушиб пальцы ноги – казалось, он
ударил
железный столб. Перед его глазами замелькали разноцветные полосы и
точки, он
почувствовал, что вот‑вот потеряет сознание, и понял, что, задушив его,
труп
пойдет домой дочитывать Марка Аврелия.
И тут его внимание
привлекло одно из плясавших перед его глазами цветных пятен. Точнее,
как раз
это маленькое голубое пятнышко не плясало, а оставалось на месте,
поэтому Митя
его и заметил. Это была та самая голубая точка, которая пропала после
того, как
он разглядел с ее помощью цикаду. Митя понял, что снова может смотреть
с
помощью этой точки, взглянул на утомленное синее лицо перед своими
глазами и
почувствовал, что его пальцы сжимают уже не горло, а что‑то мягкое и
чуть
влажное.
Перед ним на земле стоял
большой навозный шар, и его руки уходили в него почти по локоть.
Он вытащил их, несколько
раз брезгливо тряхнул и повернулся к Диме, который спрыгнул с камня и
подошел к
шару.
– Что это? –
спросил Митя.
– А то ты сам не
знаешь, – сказал Дима. – Навозный шар.
Это было правдой. Митя
знал, что это, и отлично знал, что с этим делать.
«Сколько ты у меня
украл, – подумал он, с ненавистью глядя на шар, –
ведь вообще все,
что было, украл…»
Следующее, что он понял,
было то, что думает опять не он, а шар. У него самого ничего украсть
было
нельзя, да и думать ему было особо ни к чему. Он поднял было ногу,
собираясь пнуть
этот огромный кусок навоза, но понял, что бить некого, и в этом было
самое
обидное. Осторожно, чтобы не увязли руки, он нажал на поверхность шара
– тот
стронулся с места неожиданно легко, – подкатил его к обрыву
и толкнул
вперед.
Шар прокатился несколько
метров по крутому склону, оторвался от него и исчез из виду. А через
несколько
долгих мгновений снизу долетел громкий всплеск.
Митя огляделся. Димы
нигде не было видно. Потом он заметил слабый дрожащий свет, мелькнувший
в
расщелине между двумя скалами, и подумал, что Дима там. Дойдя до
расщелины, он
щелкнул зажигалкой, протянул ее вперед и шагнул через похожий на порог
каменный
выступ. Скалы смыкались над головой, образуя подобие высокой пещеры.
Митя
увидел впереди слабый огонек, как будто у Димы в руках догорала спичка,
и
позвал:
– Дима! Где ты?
Тот не ответил.
– Кто ты
такой? – крикнул Митя и пошел вперед.
Огонек тронулся ему
навстречу, и через несколько шагов его вытянутая вперед рука с быстро
нагревающейся зажигалкой уперлась в непонятно как оказавшееся здесь
зеркало в
тяжелой полукруглой раме из темного дерева.
– То есть я как хочу
сделать, Паш, – тонким тенорком говорил Арнольду
Сэм, – я туда поеду
и возьму корыто, а назад своим ходом. Тут я корыто продам, а продам я
его,
Паша, круто. Они сейчас дорогие. И тогда у меня с прибабахом на два
новых
выйдет.
Свесив ноги, они сидели
на высоком деревянном заборе в начале набережной. Пальцы Сэма были
вжаты в
пластмассовые бока чемоданчика с такой силой, что их ногти побелели, а
лицо
было покрыто маленькими бусинками пота и до крайности сосредоточенно;
глядел он
в сторону моря, но явно видел на его месте что‑то другое.
– Но это, понятно,
через баксы, – продолжал он, – а то их все сейчас
продали, вот с
рублями, козлы, и остались. Ты ведь понимаешь, Паш, не на голое место
еду. А
кстати, тебе охотничий билет нужен?
– Зачем
это? –
спросил Арнольд.
– А чтоб официально
на стене висел. Если придут квартиру грабить – снимешь и…
Ты подумай только,
Паш, какая сильная вещь! Я сейчас оформляю себе – четыре
инстанции надо пройти,
и везде взятки платишь. Выходит примерно два с полтиной. И еще у меня
одна
мысль есть…
Снизу послышался скрип, и
Арнольд увидел приближающийся к забору навозный шар, облепленный
зелеными и
желтыми листьями.
«Уже
осень», –
подумал он с грустью.
За шаром бежал маленький
мальчик.
– Эй, –
крикнул
он, – вас зовут! Просили к столикам подойти.
– Кого
зовут? –
спросил Арнольд. – И кто?
– Не знаю, –
ответил мальчик. – Просто просили передать, что с Наташей
плохо. Вы не
знаете, где тут пляж? А то в тумане не видно ничего.
– Прямо, –
сказал Арнольд и неопределенно махнул рукой.
– Спасибо, –
недоверчиво сказал мальчик.
Он толкнул свой шар
дальше, и Арнольд некоторое время глядел ему вслед, прислушиваясь к
путаному
бормотанию Сэма.
– А если ты хочешь,
Паш, – говорил тот, – то поезжай со мной в
Венгрию. Билет шестьдесят
долларов, дорогой, но поехать стоит. И насчет ружья тоже подумай
– вещь очень
сильная…
Арнольд потряс его за
плечо.
– Сэм, –
сказал
он, – очнитесь.
Сэм встрепенулся, помотал
головой и поглядел по сторонам. Потом он раскрыл чемодан, поплевал
красным в
стеклянную баночку и спрятал ее назад.
– Это уже
интересней, – своим обычным голосом сказал он, –
здесь хоть какая‑то
перспектива видна. Что случилось?
– Не знаю, –
сказал Арнольд. – С Наташей плохо.
– О
Господи, –
сказал Сэм, – вот оно. Начинается.
Он спрыгнул на газон и
стал ждать, пока Арнольд завершит сложные эволюции с переносом веса,
полным
оборотом жирного тела на сто восемьдесят градусов и повисанием на руках.
– Если хотите знать
мое мнение, – сказал Арнольд, грузно приземлившись в
траву, – в таких
ситуациях надо вести себя жестко с самого начала. Иначе обоим будет
только
хуже. Никогда не подавайте никаких надежд.
Сэм ничего не сказал. Они
вышли на набережную и молча пошли в сторону летнего кафе.
У одного из его столиков
собралась небольшая толпа, и уже при первом взгляде на нее было ясно,
что
произошло что‑то нехорошее. Сэм побледнел и побежал вперед. Растолкав
зрителей,
он протиснулся вперед и замер.
Со стола свисал,
покачиваясь под ветром, узкий желтый лист липучки. К нему пристало
несколько
мелких листьев и бумажек, а в самом его центре, бессильно склонив
голову,
висела Наташа. Ее крылья были распластаны по поверхности листа и уже
успели
пропитаться ядовитой слизью; одно было отогнуто в сторону, а другое
непристойно
задрано вверх. Под ее закрытыми глазами чернели синяки в пол‑лица, а
зеленое
платьице, когда‑то пленившее Сэма своим веселым блеском, теперь
потускнело и
покрылось бурыми пятнами.
– Наташа! –
вскрикнул Сэм, кидаясь вперед. – Наташа!
Его удержали. Наташа
открыла глаза, заметила Сэма и с испугом поправила челку на лбу.
Усилие,
видимо, оказалось для нее чрезмерным – ее рука бессильно упала и
впечаталась в
ядовитый клей.
– Сэм, – с
усилием открывая рот, сказала она, – хорошо, что ты пришел.
Видишь, как…
– Наташа, –
прошептал Сэм, – прости.
– Представляешь,
Сэм, – тихо заговорила Наташа, – я ведь, как
дура, перед зеркалом
тренировалась. Плиз чиз энд пепперони. Думала, уеду с тобой…
Ветер донес от
репродуктора над лодочной станцией еле слышную трель балалайки.
– Понимаешь, Сэм, не
в Америку, а с тобой… Волновалась, как я там… Помнишь,
как мы купаться ходили?
А мама, представляешь, из своей шторы мне новое платье сшила. Я и не
знала
даже, смотрю – на диване лежит. Все говорила – Наташенька,
поиграй мне еще на
баяне, а то уедешь скоро насовсем… Только ей не говорите…
Пусть лучше думает,
что я, не попрощавшись, уехала…
Наташа опустила голову, и
на ее длинных ресницах заблестели маленькие капельки слез.
– Осторожно, –
раздался слева женский бас. – Пропустите‑ка.
К столику подошла
официантка с багровым лишаем на строгом, как у судьбы, лице. В ее руке
была
огромная алюминиевая кастрюля с красной надписью «III
отряд». Официантка
поставила кастрюлю на землю, вытряхнула туда остатки пищи из стоявших
на столе
тарелок, а потом одним движением сильной и жестокой ладони сорвала со
стола
лист липучки с Наташей, смяла его в маленький желтый комок и кинула
следом.
Сэма опять удержали на месте чьи‑то руки. Официантка прикрепила к столу
свежую
липучку, подхватила кастрюлю и пошла к следующему столу. Граждане стали
расходиться, а Сэм все стоял на месте и глядел на свисающую со стола
липкую
желтую полоску.
– Пойдемте,
Сэм, – услышал он тихий голос Арнольда. – Ей уже
все равно не помочь.
Идемте. Вам выпить надо, вот что. Пойдемте к Артуру, он сейчас в домик
к
покойному Арчибальду переехал. Две цистерны поставил и факс. Там тихо,
уютно.
Не смотрите только на эту липучку, я вас умоляю…
– Разрешите пройти.
Сэм поднял заплаканные
глаза. Перед ним стояла странная фигура в чем‑то вроде серебристого
плаща, край
которого волочился по земле – или, может быть, это были сложенные
за спиной
тяжелые длинные крылья.
– Разрешите
пройти, – повторила фигура. – А если вам стало
грустно, перечитайте
главу четыре.
Сэм кивнул и шагнул в
сторону.
Крупный навозный шар
необычного красноватого отлива откатился в сторону, и навстречу поплыла
длинная
пустынная набережная. Далеко впереди стоял шезлонг, в котором полулежал
еще
один навозный шар, рыжевато‑черный. Когда шезлонг оказался ближе, стало
видно,
что это толстый рыжий муравей в морской форме; на его бескозырке
золотыми
буквами было выведено «Iван Крилов», а на груди блестел
такой огород орденских
планок, какой можно вырастить, только унавозив нагрудное сукно долгой и
бессмысленной жизнью. Держа в руке открытую консервную банку, он
слизывал
рассол с американской гуманитарной сосиски, а на парапете перед ним
стоял
переносной телевизор, к антенне которого был прикреплен треугольный
белый
флажок. На экране телевизора в лучах нескольких прожекторов
пританцовывала
стрекоза.
Налетел холодный ветер, и
муравей, подняв ворот бушлата, наклонился вперед. Стрекоза несколько
раз
подпрыгнула, расправила красивые длинные крылья и запела:
Только
никому
Я
не дам ответа,
Тихо
лишь тебе я прошепчу…
Рыжий затылок муравья, по
которому хлестали болтающиеся на ветру черные ленточки с выцветшими
якорями,
стал быстро наливаться темной кровью.
Дмитрий сунул руки в
карманы и пошел дальше. С его крыла сорвалась чешуйка и, качнувшись под
ветром,
приземлилась на покрытый облетевшими листьями бетон. Она была размером
примерно
с ладонь, расщепленная на несколько темнеющих к концу хвостов, а с
другого –
белая, плавно сходящаяся в сияющую точку.
…Завтра
улечу
В
солнечное лето,
Буду
делать все, что захочу.